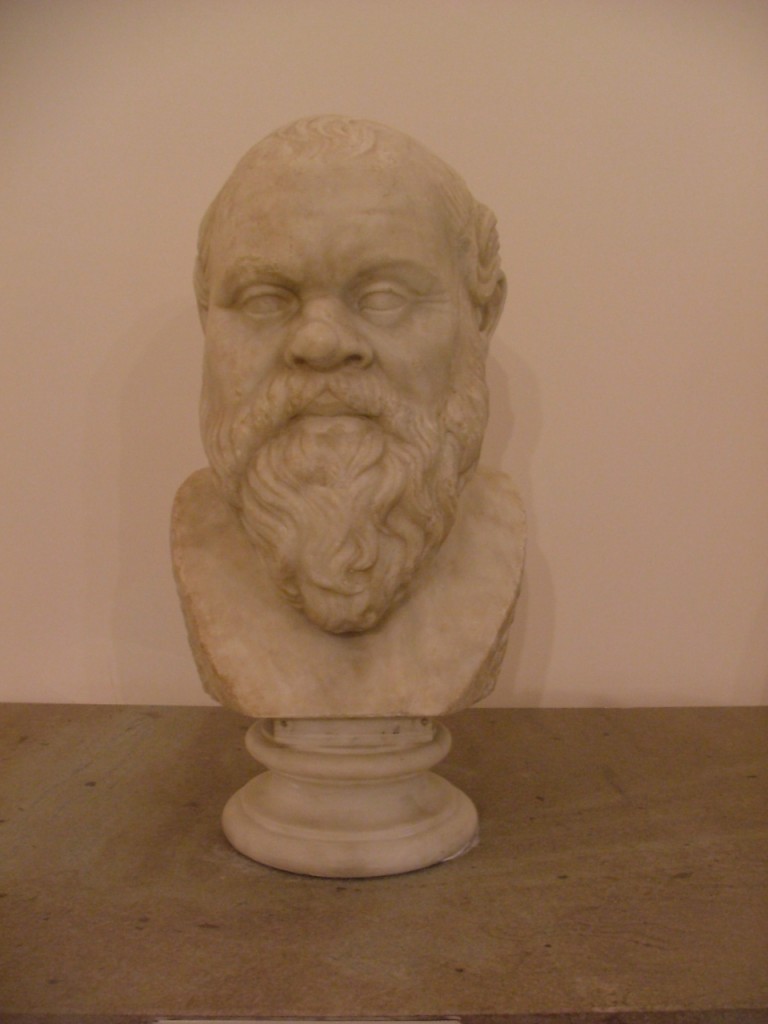Dr. hist. Харийс Туманс
( Ассоциированный профессор Латвийского Университета )
СОКРAТ И СОФИСТЫ:
ПРОБЛЕМAТИЗAЦИЯ ИНТЕЛЛЕТКТУAЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВA
опубликовано в журнале “Мнемон” 10, 2011. С. 335 – 362.
О Сократе и софистах сказано уже бесконечно много, однако эта тема имеет такое количество аспектов и нюансов, что исчерпать их пока не представляется возможным. Мне бы хотелось здесь вкратце обсудить ту новую культурную ситуацию, которую выявила полемика Сократа с софистами. Смыслом этой полемики было, на мой взгляд, столкновение двух противоположных мировоззрений и производных от них ценностных систем. Внешне же это выражалось в дискуссиях по различным вопросам, но в ходе полемики всякий раз проблематизировалась и сама интеллектуальная деятельность как таковая, ее возможности, задачи и цели. В результате были выявлены две противоположные позиции, которые раз и навсегда поставили вопрос о самоопределении интеллектуального творчества. Эти позиции как раз и станут здесь предметом пристального рассмотрения. Поскольку Сократ обсуждал с софистами в – основном риторику и философию ( «мудрость» ), то под интеллектуальным творчеством здесь подразумевается всякая интеллектуальная деятельность, направленная на создание новых идей и смыслов, и прежде всего, искусство слова[1].
Любому, кто берется за тему Сократа, необходимо сначала решить вопрос о его историчности, что на самом деле есть вопрос об источниках. В рамках данного обсуждения достаточно сформулировать занимаемую позицию, не углубляясь в сложный анализ проблематики, представляющей из себя отдельную большую и уже весьма избитую тему. Суть проблемы состоит в том, чтобы отделить литературный образ Сократа, созданный Платоном, от настоящего Сократа[2]. Следуя распространенному мнению, за основной источник по Сократу я принимаю ранние, т.н. «сократические» сочинения Платона, в которых, как принято считать, больше Сократа, чем Платона[3]. В то же время, в гораздо большей степени, чем это принято у многих авторов, я склонен оказывать доверие свидетельствам Ксенофонта[4], полагая их ценным дополнением к тому, что сообщает нам Платон. При этом следует отметить, что для данной темы проблема исторического Сократа не имеет принципиального значения, ведь по большому счету, не так уж важно, кто сформулировал и вынес на повестку дня вопрос о смысле интеллектуальной деятельности – Сократ или Платон. Главное, что вопрос был поставлен именно таким образом, и тем самым был зафиксирован важный момент в истории греческой культуры. Тем не менее, я считаю нужным заметить, что, по моему глубокому убеждению, живую полемику с софистами вел все-таки сам Сократ, а Платон принял в ней участие не напрямую, но лишь в процессе своей литературной деятельности. Думается, он в – принципе верно отразил суть противоречий Сократа с софистами, поскольку писал свои диалоги что называется «по свежим следам». Вместе с тем, если принять во внимание специфику жизни в face to face society, то следует признать, что Платон не мог откровенно лгать или фантазировать, говоря о людях, хорошо известных многим из его читателей, ведь в его намерения явно не входило прослыть этаким Мюнхгаузеном или негодяем[5]. Отсюда следует, что он, скорее всего, не приписывал конкретным людям несвойственных им мнений, но лишь комбинировал и оформлял эти мнения в литературной форме. Таким образом, тексты Платона и Ксенофонта, хоть и с оговорками относительно их литературной природы, принимаются здесь как вполне достоверные источники о Сократе[6].
Однако, приступая к разговору о Сократе и софистах, необходимо еще решить вопрос об их размежевании, ведь только сделав это возможно вообще говорить о полемике между ними. Дело в том, что уже издавна укоренилось мнение, будто бы Сократ не только не был противоположен софистам, но скорее наоборот, был к ним очень близок, или даже сам являлся одним из них[7]. При таком подходе, естественно, все принципиальные противоречия между Сократом и софистами отрицаются и объявляются выдумкой Платона[8], а вместо этого постулируются несущественные разногласия по частным вопросам[9].
Единственным аргументом в пользу такой интерпретации, если не считать тенденциозный полет мысли самих авторов, может служить аристофановская комедия «Облака», в которой Сократ представлен именно в качестве софиста. Однако на самом деле это никакой не аргумент. Целью Аристофана было высмеять и дискредитировать софистов, а не ознакомить публику с идеями Сократа. Поэтому ожидать от его комедии верного отображения сократовских мыслей было бы, по меньшей мере, слишком опрометчиво[10]. Другое дело, что по каким-то неизвестным нам причинам, Аристофан именно Сократа сделал ответственным за все грехи софистов, превратив его в настоящего «козла отпущения». Возможно, он поступил так потому, что Сократ, в отличие от бродячих «учителей мудрости», был местным уроженцем, и афиняне в любой момент могли его увидеть и, что называется, «потрогать руками». Но возможно, имела место и какая – то личная неприязнь. Во всяком случае, ясно, что те смешные «учения», которые изображаются в комедии, не имеют ничего общего с идеями Сократа, зато для них легко находятся соответствия именно в теориях софистов, тех самых, против кого на самом деле и выступил Аристофан. Единственное, что можно извлечь из этой комедии относительно Сократа, так это то, что в глазах несведущего обывателя он действительно выглядел обычным софистом. Однако несправедливость такой идентификации была очевидна уже в древности и поэтому уже тогда возникла традиция, объясняющая появление «Облаков» происками врагов Сократа – тех самых, которые устроили суд над ним, но сначала заказали дискредитирующую его комедию ( Diog. Laert., II, 5, 38; Ael. Hist. Var., II, 13 ). Конечно, эта версия явно надуманная, т.к. постановку комедии (423) и смерть Сократа (399) разделяет большой промежуток времени, но, сам по себе факт такой привязки этих двух событий весьма показателен.
Что же касается существа вопроса, то внешне, т.е. чисто формально, Сократ и в самом деле походил на софиста. Как у софистов, у него была своя «школа», в которой он чему – то учил своих учеников, и в которой произносились заумные и непонятные простому обывателю речи на странные, отвлеченные темы. Если не говорить о сути дела и не вникать в содержание, то это и может кому-то показаться достаточным основанием для причисления Сократа к софистам. Но имеем ли мы право не вникать и судить только формально? Ведь тогда, пользуясь таким методом, мы можем уподобить что угодно чему угодно. В этой связи на память приходит анекдот из Диогена Лаэртского, о том, как Диоген – киник посмеялся над таким формальным определением человека, якобы данным Платоном. Определение гласило, что человек – это «животное о двух ногах, лишенное перьев». Тогда Диоген предъявил публике ощипанного петуха, заявив, что это и есть платоновский человек ( Diog. Laert., VI, 2, 46f ). Вот как раз с таким же точно успехом можно идентифицировать или сближать Сократа с софистами…
Если же говорить серьезно и по существу, то очень скоро становится очевидной противоположность Сократа и софистов[11]. Эту противоположность в наибольшей степени выявляет всем известный и часто обсуждаемый вопрос о плате за учебу[12]. Софисты, как известно, взимали плату за свои уроки, а Сократ по принципиальным соображениям считал это неприемлемым для себя. Правда, наиболее тенденциозные авторы, чтобы представить Сократа как можно более софистом, договариваются даже до того, что заявляют, будто он не брал плату только потому, что якобы стеснялся афинян[13]. Чтобы сделать такое заявление, надо, конечно, наплевать на источники и огульно обвинить их во лжи. Но такой подход явно противоречит здравому смыслу и потому не заслуживает внимания. В источниках же совершенно ясно выражена принципиальная позиция Сократа по вопросу о плате за учебу, за которой просматривается не только его отношение к деньгам, но и вообще все его мировоззрение. Для нас вопрос о плате имеет особое значение, поскольку именно в нем, как в одной точке, с наибольшей ясностью проблематизируется интеллектуальное творчество. Иными словами, вопрос ставится о его смысле, т.е. о целях и задачах.
Итак, все по порядку. С наибольшей заостренностью вопрос о плате за науку дискутируется в одном диалоге в «Воспоминаниях» Ксенофонта. Позицию софистов представляет Антифонт и он же выполняет роль «нападающего». Здесь Ксенофонт объединяет сразу два разговора, и оба раза Антифонт ставит в вину Сократу то, что он не берет денег с учеников. В первый раз он заявляет, что, по его мнению, занятия философией должны делать человека счастливым, а Сократ получает плоды прямо противоположные и все из – за своей чудовищной бедности. «Живешь ты, например, так, что ни один раб при таком образе жизни не остался бы у своего господина: еда и питье у тебя самые скверные, гиматий ты носишь не только скверный, но один и тот же и летом и зимой; ходишь ты всегда босой и без хитона. Денег ты не берешь, а они доставляют радость, когда их приобретаешь, а когда владеешь ими, дают возможность жить и приличнее и приятнее» ( Xen Memor., I, 6, 3 )[14]. Такой образ жизни кажется Антифонту настолько ужасным, что в заключение своей речи он объявляет Сократа учителем злополучия. В следующей беседе софист повторяет свой упрек в более изысканной форме – он заявляет, что, поскольку все вещи имеют свою стоимость, то Сократ не берет деньги за свои беседы, видимо, потому, что сам не считает их чего – нибудь стоящими, а следовательно, они и в самом деле, ничего не стоят ( Ibid., 11 -12 ).
В обеих речах прекрасно показана система ценностей Антифонта – для него цену и смысл имеет только то, что измеряется деньгами и продается. Конечно, при желании можно было бы списать этот пассаж на недобросовестность Ксенофонта, якобы стремившегося очернить софистов, но вряд ли это так. Во – первых, у нас есть хоть и косвенные, но весьма существенные факты из совершено посторонних, т.е. нейтральных источников, которые заставляют с доверием отнестись к словам Ксенофонта. Это, прежде всего тот факт, что, согласно данным античной традиции, в несохранившейся комедии «Писандр», написанной комедиографом Платоном, высмеивалось сребролюбие Антифонта ( Ps. Plut. Antiph. ). Следовательно, есть все основания полагать, что он и в самом деле любил деньги, а раз так, он вполне мог обратиться к Сократу с упреками в бедности. Затем, нам известно, что Антифонт пропагандировал новаторские, даже революционные идеи[15], например идею равенства всех людей по рождению ( Fragm. 44 В, col. 2 DK). И кроме того, анализ его политической деятельности показывает, что он выступал против знатнейших аристократов[16]. Все вместе это характеризует его как сторонника анти – традиционной идеологии и как носителя «прогрессивного» типа мышления. Именно такой настрой мыслей является необходимой предпосылкой для столь принципиального выступления против Сократа, как это показано у Ксенофонта. Сократ, с его консервативным образом мыслей, и особенно, с его делением людей на знающих и не знающих, на лучших и худших, автоматически оказывался в противоположном лагере. Поэтому нападки на него со стороны Антифонта кажутся вполне естественными[17].
Во – вторых, точно такой же, как у Антифонта, образ мыслей софистов мы находим и в платоновских диалогах. В «Гиппии Большем» известный софист похваляется тем, что он зарабатывает больше других, включая и самого знаменитого из них – Протагора ( Plat., Hipp. Maior 282e ). Там же сообщается, что все серьезные софисты, такие как Горгий, Продик и Протагор, зарабатывают своей мудростью немалые деньги, большие, чем другие мастера каким угодно искусством ( Ibid., 282b – d). Сократ же, как всегда иронично подтрунивает над этим и делает заключение, что, согласно мнению многих, мудрец должен быть мудр прежде всего для себя самого, а отсюда следует, что мудр на самом деле тот, кто заработал много денег (Ibid., 283b ). Тем самым он кратко определил самую суть деятельности софистов, и Гиппий молчаливо с этим согласился. В конце диалога, когда Сократ окончательно запутал его рассуждениями о том, что прекрасно, а что нет, Гиппий, уже раздраженный, объявил всю беседу с Сократом пустой болтовней и сформулировал свое понимание прекрасного, свое настоящее софистическое «credo». Прекрасным он считает умение выступить с хорошей, красивой речью, убедить слушателей и удалиться с наградой, притом «не ничтожнейшей, но величайшей» ( Ibid., 304b ). Действительно, этим все сказано. Именно так софисты и понимали задачи своего мастерства – блестяще выступить и заработать. В таком же точно духе и Горгий объясняет Сократу смысл искусства красноречия: по его мнению, оно необходимо, чтобы убеждать людей в собраниях и судах, а убеждая – править ими и зарабатывать деньги ( Plat. Gorg., 452e). Деньги являются целью ораторского искусства потому, что они стоят на первом месте в системе ценностей софистов. Так, например, Гиппий, на вопрос о прекрасном отвечает, что это – прежде всего, быть богатым, затем здоровым и т.д. ( Plat. Hipp. Maior, 291d ). А в диалоге «Менон», главный собеседник Сократа, тоже софист, ученик Горгия, определяя сущность блага так и говорит, что оно состоит в том, чтобы «накопить золота и серебра и достичь почестей и власти в государстве» ( Plat., Meno. 78c )[18].
Конечно же, такой установке соответствует полная моральная свобода[19]. Для достижения цели средства не имеют значения. Это прямо заявляет Сократу Пол в «Горгии», когда утверждает, что успешные люди достойны зависти, независимо от того, были ли их действия справедливыми или нет ( Plat. Gorg. 469e; 471a – d etc. ). Вообще, для софиста важно лишь обладание искусством слова и потому сам Горгий утверждает, что оратору не нужно знать существо дела, по которому он выступает, т.к. главное для него – убедить слушателей в том, что ему необходимо. В любом споре со специалистом из любой другой области оратор выйдет победителем потому, что он умеет убеждать, а народ выберет не того врача, который знаток своего дела, а того, который владеет словом и может убедить, что он – лучший. Последствия таких действий софиста не интересуют[20]. Оратор может добиться всего, чего ни пожелает, но при этом учитель риторики свободен от ответственности за то, как его ученики применяют на деле его искусство, т.е., он морально свободен ( Plat., Gorg.456b – 457b; 459b – c ). Таким образом, для софиста главное – владение силой слова и достижение с его помощью заветных целей – денег, власти, славы. Без зазрения совести он заставит слушателей избрать врачом не искусного медика, а «нужного» человека. Если учесть, что сам Горгий сферой применения своего искусства считает общественную деятельность, и прежде всего, политику ( Ibid., 452e, 454b, 456b ), то напрашивается вывод, что по сути дела, он – самый настоящий политтехнолог, «делающий» выборы и влияющий на политику под заказ. От современного коллеги его отличают лишь используемые средства – за отсутствием технических средств массовой пропаганды, его главным инструментом манипулирования людьми служит живое слово. А цели все те же – «накопить золота и серебра»…
В наше время стало модным отрицать все эти данные Платона как неверные и представлять софистов «белыми и пушистыми», исключительно в качестве прагматичных и критически мыслящих специалистов в области риторики, права и т.д.[21] Однако у нас нет серьезных оснований подозревать Платона в намеренном и грубом искажении правды о софистах. Конечно, он их не любил и вел с ними острую дискуссию в своих трудах, но ведь мы должны учитывать, что выносить на суд широкой публики свою полемику с кем-то можно только в том случае, если автор уверен в своей корректности, т.е. в том, что он верно, без принципиальных искажений, передает позицию своих оппонентов. Платон был серьезным и уважающим себя автором, чтобы игнорировать этот основополагающий принцип. Он мог в сгустить краски, но не лгать. Конечно, все тексты сочинены им самим и им же облечены в изящную литературную форму, но при этом очевидно, что он верно передает принципиальные установки Сократа и его оппонентов. Да и кто из современных критиков может сказать, что он лучше Платона знает софистов? Или, что его взгляд на вещи более правильный и объективный? Похоже, что все попытки обелить софистов и очернить Платона с Сократом, вызваны именно тем обстоятельством, что софисты выглядят слишком уж современно, а нам свойственно защищать свое время и считать его наилучшим… Феномен софистики и в самом деле как нельзя лучше вписывается в современность. Если упрощенно обобщить софистическое мировоззрение, то о нем можно сказать, что это материалистический, даже атеистический взгляд на мир, которому свойствен релятивизм, скептицизм и максимально прагматический, утилитарный подход ко всему на свете. А в основе всего лежит сугубо эгоцентрическая система ценностей, на первое место ставящая деньги и личное благополучие. Все это вполне современно и хорошо нам знакомо.
В результате, следует признать неверным устоявшееся мнение, будто софисты представляли собой движение Просвещения и прогресса[22]. На самом деле они никого не просвещали и не несли никакого прогресса. Это были самые настоящие постмодернисты, т.е. люди вполне в духе нашего времени[23]. Все, что мы о них знаем, как нельзя лучше соответствует тому, что сказали о них Платон с Ксенофонтом. Софисты и в самом деле вели вполне современный, образ жизни и деятельности, свободно передвигаясь по Элладе в поисках денег и славы, хорошо зарабатывая, где придется и как придется своим искусством слова, и не утруждая себя при этом размышлениями о моральной стороне своей деятельности. Неудивительно, что в «Софисте» Платон определяет софистику как охоту за богатыми юношами, торговлю знаниями и вообще, как способ наживать деньги путем словопрений ( Plat. Soph., 223b; 224d; 226a ). Кстати, античная традиция сохранила свидетельства о богатстве софистов. Известно, например, что Горгий поставил себе в Дельфах золотую статую, а это – показатель весьма больших доходов ( Paus., VI, 17, 7; Athen., XI,505 d; Cic., De orat. III, 32, 129 ). Более того, Плиний утверждает, что Горгий был первым из людей, поставившим самому себе золотую статую в храме ( Plin., Hist. Nat. XXXIII, 83 ). В таком случае, это еще и свидетельство его дерзости, ставшей плодом тщеславия. Кроме того, в античности ходили легенды о том, что Горгий и Гиппий выступали в пурпурных одеждах, а это был несомненный показатель роскоши ( Ael., Hist. Var. XII, 32 ). Все это прекрасно вписывается в картину, нарисованную Платоном.
Итак, цель интеллектуального творчества для софистов вырисовывается вполне отчетливо – это прибыль, власть и слава, т.е., собственная выгода. Причем, без моральных ограничений. В этом софисты были, опять же, очень современны нашей эпохе. В их системе ценностей мудрость, как и у нас сегодня, действительно измеряется количеством денег, согласно нашей же современной поговорке: if you are so clever, show me your money. Такой взгляд на вещи имеет под собой концептуальное обоснование и оно ясно выражено в убеждении, что мудрец должен быть мудрым прежде всего для себя самого ( Plat., Hipp. Maior 283b ). Тем самым формулируется ключевой вопрос интеллектуальной деятельности, как его тогда понимали: для кого нужна мудрость, т. е. к чему ее следует прилагать? Софисты ответили однозначно: мудрость, она же интеллектуальная деятельность, нужна для собственного блага того, кто ей занимается.
Такова новая точка зрения на творчество, рожденная новой эпохой. Спор о плате выявляет ее как нельзя более рельефно. Бросается в глаза, что она очевиднейшим образом противостоит двум другим точкам зрениям, представленным Сократом. Одна из них – это вся предшествующая традиция греческой культуры, а другая – позиция самого Сократа. Первую Сократ представляет в своей излюбленной шутливо ироничной форме в беседе с Гиппием у Платона ( Plat., Hipp. Maior, 281a – 283b ). После того как в самом начале разговора Гиппий похвалился своими успехами на дипломатическом поприще, Сократ поинтересовался, как, по его мнению, можно объяснить тот факт, что древние мудрецы – такие как Биант, Питтак и Фалес – воздерживались от общественной деятельности. Естественно, Гиппий объяснил это ограниченностью их ума, т.е., неспособностью объять одновременно дела общественные и частные. Отсюда закономерно последовал вывод, что мудрецы прошлого заметно уступают мудрецам нынешним, т.е. софистам. Затем Сократ с иронией, если не сказать с издевкой, перечислил успехи софистов в зарабатывании денег, а напоследок с наигранной наивностью воскликнул, как просты были древние мудрецы, раз они не заметили, что деньги имеют большую цену. Да и вообще, в отличие от мудрецов современных, они не только не умели преумножать свои состояния, но даже теряли то, что имели.
Таким образом, в центре внимания опять оказывается вопрос о плате за интеллектуальное творчество. Кстати, тот факт, что оба наших основных источника показывают Сократа за обсуждением этого вопроса с софистами, свидетельствует о том, насколько важна была для него эта тема, и что полемика по данному предмету действительно имела место. Но, независимо от того, как на самом деле проходили дискуссии, ясно одно: Платон в «Гиппии большем» очень четко зафиксировал противоположность новомодной софистики и традиционной греческой мудрости, на стороне которой выступает Сократ. Все, что говорит Сократ в первой части диалога, акцентирует внимание на том, что, в отличие от современной алчной софистики, традиционной мудрости был свойствен дух нестяжательства и бескорыстия.
Здесь будет уместным напомнить, что в греческой культуре издавна бытовали представления, согласно которым наемный труд считался признаком несвободы, низким и позорным делом, недостойным свободного человека. Хорошо известно, как классические тексты хвалят земледелие – за то, что оно обеспечивает все основные потребности граждан, закаляя заодно их дух и тело; и в то же время, те же тексты осуждают ремесло с торговлей как занятия, вредящие духовному и физическому здоровью ( Od., XVIII. 366 – 379; Xen. Oec., IV, 2 – 4;V, 1 – 12; Arist. Pol.,1277 a 36 – 1277 b 3; 1278a 6 – 7 ). Как видно, моральная оценка разных видов деятельности явно доминирует над экономической. Причем, опять же, свою роль играет и то обстоятельство, что традиционное земледелие, как его понимают данные авторы, имеет некоммерческую природу, будучи направленным исключительно на самообеспечение; напротив, ремесло с торговлей изначально ориентированы на продажу[24]. А Плутарху, как известно, даже труд знаменитых скульпторов и поэтов кажется недостойным свободного человека ( Plut. Per., II ).
Сократ очень остроумно использовал этот комплекс традиционных представлений в полемике с Антифонтом. В первой беседе, отвечая на упрек в своей бедности, он заявил, что, не беря денег с учеников, он сохраняет свою свободу, и не обязан говорить, с кем не желает, в то время как софист должен отрабатывать полученные деньги ( Xen. Memor., I, 6, 4 – 5 ). Таким образом, софист, работающий за плату, приравнивается к любому другому наемному работнику, т.е. к человеку, по определению несвободному. Вместе с тем, Сократ своим ответом продемонстрировал свою приверженность традиционным ценностям. Во второй беседе он очень удачно парировал выпад Антифонта о ничтожной ценности его знаний, якобы из-за того, что за них не назначена плата. На софизм он ответил более искусным софизмом, уподобив знания красоте, а затем приравняв торговлю знаниями к торговле телом: «так, красоту если кто продает за деньги кому угодно, того обзывают распутником (povrno” )… Точно так же, кто продает свои знания за деньги кому угодно, тех обзывают софистами» ( Ibid., I, 6, 13 ). Кажется, больше унизить софистику было нельзя[25]. Сократ попал не в бровь, а в глаз! В рамках традиционных ценностей это очень точное попадание.
Однако вернемся к платоновской беседе с Гиппием. Поиронизировав над заработками софистов, Сократ заводит не менее ироничный разговор о невостребованности софистического искусства Гиппия в Спарте, славящейся своей доблестью, хорошими законами и приверженностью к обычаям предков ( Ibid., 283b – 285b ). Сократ, как известно, высоко ценил спартанское государственное устройство, и придавал ему статус образцового ( Xen., Memor. III, 5, 14 – 15). Следовательно, для него тот факт, что лакедемоняне, больше всего ценящие добродетель, не желают отдавать своих детей на воспитание Гиппию и остаются верными традициям отцов, есть уже само по себе свидетельство против его учености, не имеющей ничего общего с добродетелью[26]. Тем самым еще раз подчеркивается противоположность софистической псевдомудрости традиционным греческим представлениям о мудрости настоящей.
Из сказанного следуют два вывода относительно мудрости древних, как ее понимали Сократ, Платон, и, видимо, Ксенофонт. Во – первых, она имеет своей целью добродетель, а во – вторых, она совершенно чужда прибыли и всякого вообще стяжательства. Оба принципа взаимосвязаны, и один перетекает в другой. При этом оба они прямо противоположны софистическому принципу личной выгоды. Поскольку Сократ обсуждает мудрость в контексте творчества и связывает оба понятия воедино, то отсюда вытекает, что традиционным смыслом творчества, как он его понимает, является служение добродетели. С этим можно согласиться, но с оговоркой относительно понимания добродетели, которое изменялось со временем и от автора к автору. Нравственность во главу угла впервые поставили Сократ с Платоном, а до них акценты ставились по- разному. Например, для Гомера высшей добродетелью была воинская доблесть, для Гесиода – справедливость и честный труд, для Алкея, Феогнида и Пиндара – доблесть аристократа в разных ее ипостасях, для Солона – доблесть гражданина и т.д. Но всех их связывает одна общая черта – установка на то, чтобы служить своим творчеством общественному благу или, как минимум, благу конкретной группы людей. В этом проявляется смысл традиционной мудрости – она имеет целью не личное благо творящего индивида, а благо других. Такая направленность изначально была свойственна греческому интеллектуальному творчеству уже начиная с Гомера. Связано это, скорее всего, с особым отношением к искусству слова, почитавшемуся как дар богов.
Как известно, изначально высшей формой словесного искусства у греков являлась поэзия, а поэт считался избранником высших сил, вещим мудрецом, проницающим истину. Предполагалось, что, подобно известному Демодоку из «Одиссеи», поэт «дар песней принял от богов» ( Od., VIII, 44 ), и потому он «муж многочтимый в народе» ( Od., XIII, 28)[27]. Гомер и Гесиод обращались к Музам как к источнику знаний и вдохновения. Они выступали носителями божественной истины в мире людей и их действительно можно называть великими воспитателями греков[28]. К ним вполне применимы слова певца Фемия из «Одиссеи» сказавшего о себе так: «пению сам я себя научил, вдохновением боги душу согрели мою[29]….» ( Od., XXII, 347f )[30]. Правда, если Гомер вообще никак не проявлял своего «я», то Гесиод уже вещал от своего имени, но при этом его окрылял пафос владения высшей истиной, которую он нес людям. Неслучайно поэтому современные исследователи иногда сравнивают его с библейским пророком Амосом[31]. Гесиоду же подражал Солон, обративший свой поэтический дар на служение родному полису[32]. Кстати, не случайно он хотел сначала издать свои законы в виде поэмы ( Plut., Sol. XIV ), – таким способом он придал бы им священный статус и сам выступил бы в роли пророка. Да и философы, как известно, довольно долго облекали свои сочинения в поэтическую форму, причем с той же целью, ведь они также выступали в роли вдохновенных глашатаев истины.
С развитием литературы, данная установка творческой деятельности перешла и на другие жанры. Греческая проза тоже изначально имела перед собой цель принести пользу обществу. Например, Геродот пишет свою историю, «чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение» ( Hdt., I, 1 ), т.е. он ставит перед собой большую цель общественного значения. Трезвый и прагматичный Фукидид пишет для того, чтобы его читатели могли извлечь для себя пользу ( Thuc. I, 22, 4). И, что интересно, даже греческая комедия, которая в силу своего жанра должна развлекать, тем не менее ставит перед собой еще и воспитательные цели, как это хорошо видно в творчестве Аристофана[33]. Комедийный поэт стремится принести пользу своим согражданам и «легкий» жанр ему не помеха, ведь, как он сам говорит, «правду знает даже и комедия» ( Aristoph. Acharn. 500 ). Одним словом, традиционно творчество ( «мудрость» ) в той или иной степени служило благу других и выполняла великую функцию воспитания сограждан, что хорошо показал Вернер Йегер в своей знаменитой «Пайдейе».
Но времена меняются, а с ними меняются и люди, и их ценности. Похоже, что поэзия первая открыла взору новый мир ценностей, подспудно вызревавший в греческом космосе. В ней довольно рано произошло разделение на несколько путей, в зависимости от идейной направленности авторов. Поэзия уже сразу после Гесиода стала обретать все более субъективный характер, в ее недрах развились развлекательные, даже гедонистические мотивы, не имеющие ничего общего ни с интеллектуальным творчеством, ни с какой-то особой миссией поэта. Отсюда понятно скептическое отношение Сократа, а затем и Платона, к поэзии. Они остались на прежних позициях интеллектуального творчества, критерием для которого они сделали его роль в воспитании добродетели[34]. Именно поэтому в беседе с Гиппием, Сократ, ссылаясь на мудрецов древности, не приводит в пример ни одного поэта, а называет лишь мыслителей из серии знаменитых «семи мудрецов» ( Plat., Hipp. Maior, 281a – 283 b ). В «Горгии» же он вообще дисквалифицирует современную поэзию, приравняв ее к софистической риторике, поскольку она не учит добродетели, а занята угодничеством перед публикой, благоволения которой добивается ( Plat., Gorg.501e – 502d ). Однако это касается именно новой поэзии, ведь классическую трагедию, если не включать в нее Еврипида[35], никак нельзя упрекнуть в угодничестве или в недостатке внимания к добродетели. Ее воспитательная роль не вызывает сомнений[36]. Правда теперь все изменилось, и новые трагики, вроде Кинесия и Мелета, которых упоминает Сократ, никого ничему не учат, а служат лишь собственному благу. А ведь еще недавно на той же сцене ставились произведения Эсхила и Софокла.
Конечно, перемены произошли сначала не в поэзии, а в мировоззрении, поэзия же лишь зафиксировала их. Однако наиболее полное воплощение новые тенденции получили в софистике, обозначившей рубеж полной десакрализации картины мира. Верно замечено, что софистам стали не нужны Музы для легитимации их творчества, т.к. их заменила техника, т.е. мастерство[37]. В соответствии с этим софисты преподносили себя в образе не пророков, а учителей. Но учителей чего? Именно этот вопрос со всей остротой поставил Сократ, особенно у Платона, и особенно в начале «Протагора». Именно этот вопрос и выявил наличие резко противоположных подходов к интеллектуальному творчеству…
Сказанное означает, что перелом, четко обозначившийся с появлением софистики, произошел не только в риторике и философии, но и в культуре в целом. Менялись не просто какие – то условия жизни и деятельности, менялись сами фундаментальные ценности. На смену прежним идеалам и образцам приходили новые. Софисты шли в авангарде новой эпохи, подводя теоретическое обоснование под мир новых ценностей. Своей деятельностью они обозначили тот культурный перелом, который мы сегодня могли бы назвать, скажем, «древнегреческой модернизацией». Эта модернизация затронула практически все сферы жизни – политику, экономику, социальную сферу, культуру. Одним из ее проявлений стало новое понимание смысла творчества, и прежде всего, интеллектуального. Таким смыслом, вместо прежней пользы для других, сделалась теперь собственная выгода автора. Софисты были глашатаями и теоретиками новых ценностей и смыслов. И тут они столкнулись с Сократом.
Собственная позиция Сократа в отношении интеллектуального творчества, как уже можно было заметить, на самом деле есть лишь продолжение и развитие греческой традиции, произведенное мыслящим, рефлектирующим индивидом. Из приведенных примеров видно, что Сократ разделяет два основных традиционных постулата: это убежденность в принципиально нестяжательском характере творчества и в его направленности на благо других. Его собственный вклад состоит в том, что он развил постулат о пользе, прочно связав ее с добродетелью, определяемую им как нравственное совершенство. Поэтому в самом начале «Протагора» он ставит вопрос о нравственной пользе обучения и показывает, насколько опасно молодому человеку браться за обучение какому-либо искусству,– а речь идет, ни много ни мало, как о научении мудрости у самого Протагора, – не выяснив предварительно, принесет ли обучение вред или пользу для души ( Plat. Protag., 313a – 314a ). Иными словами, Сократ придал творчеству нравственное содержание и сделал нравственность критерием его оценки. Отсюда вытекает и главная задача интеллектуального творчества – воспитание добродетели. Смысл в том, что искусство должно делать людей лучше ( Plat., Gorg. 513e). Поэтому, говоря конкретно о риторике, утверждается, что «речи достойного человека всегда направлены к высшему благу» ( ejpi; to; bevltiston – Ibid., 503d )[38]. Софистическая же риторика плоха именно тем, что угождая людям, способствует их нравственной порче, а потому ее вообще нельзя называть искусством ( = творчеством ), а в лучшем случае, некоей сноровкой, вроде поварской ( Ibid., 459b – 466b, 502c – 503b ). Как раз этой теме и посвящен знаменитый платоновский «Горгий»[39]. Поставив вначале диалога вопрос о смысле риторики, Сократ затем приходит к главному человеческому вопросу: «как надо жить?» ( Ibid., 500b ). В контексте диалога это означает вопрос о смысле жизни вообще[40]. Речь идет не только о выборе между жизнью активной и жизнью философской[41], но о выборе основных ценностных ориентиров. Выбор между софистической риторикой и подлинной философией у Сократа – Платона означает выбор между путем порока и путем праведности. Это же есть выбор между истинным и ложным творчеством.
Итак, Сократ оказывается пророком добродетели. Но для того, чтобы стать пророком, человек должен сделать себя служителем высшей истины. И Сократ сделал это. Следуя греческой традиции он называл себя служителем Муз ( Plat., Phaed. 60e ), а также служителем Аполлона ( Plat., Apol. 85b ). Это выводит нас на теологические основания его позиции, о чем следует сказать хоть пару слов, чтобы прояснить суть дела. Даже если отбросить все данные Платона о религии Сократа[42] – чтобы не смешать случайно его собственную метафизику с верой его учителя – у нас остаются весьма убедительные свидетельства Ксенофота. В его «Воспоминаниях» Сократ не только периодически обращается к некой невидимой, но всесильной и абсолютной сущности, обозначаемой им то как «бог», то как «божество», но и напрямую доказывает существование божественного промысла, управляющего вселенной ( Xen. Memor. I, 6, 10; 4, 4 – 18; IV, 3, 1 – 14 ). Здесь не место углубляться в детальный анализ данных свидетельств, но уже с первого взгляда понятно, что они вполне созвучны той метафизике, которую мы находим в платоновских диалогах. Нет сомнений, Платон внес много нового в метафизику Сократа, создав на ее базе свою собственную, но ясно и то, что он не мог приписать учителю метафизику как таковую, если бы ее не вообще было, он мог ее только развить и дополнить[43]. Именно метафизика была источником вдохновения для Сократа и основанием для его моральной философии[44]. Иными словами, мировоззрение Сократа было насквозь религиозным и теоцентричным. Собственно говоря, без религиозной составляющей мы ничего не можем понять о феномене Сократа – ни его нравственную позицию, ни его образ жизни, ни конечно же, смерть[45].
Кстати, образ жизни в данном контексте имеет принципиальное значение, т.к. Сократ постулировал нестяжание и воздержанность как основной принцип жизни добродетельного человека. Но если интеллектуальной деятельностью, как он считал, должны заниматься только добродетельные люди, то принцип бескорыстия тем самым становится также фундаментальным принципом творчества. Сам Сократ жил в бедности, в полном соответствии со своими убеждениями. На вопрос о стоимости своего имущества он ответил, что его цена составит не больше пяти мин ( Xen. Oeck., 2, 3 ), а на суде он заявил, что может заплатить штрафа максимум на одну мину ( Plat., Apol. 33 b ). О его бедности и скромных запросах ходили легенды, намного пережившие его время ( Diog. Laert. II, 5, 24, 25, 35 ). Неудивительно, что первый упрек Антифонта ему состоит именно в бедности, причем такой, что даже для раба она была бы несносной ( Xen. Memor., I, 6, 2 – 3 ). Сократ отвечает ему целой речью в защиту скромного образа жизни ( Ibid., 5 – 10 ). А в другой беседе с одним богачом он уже в наступательном тоне хвалит бедность, противопоставляя ее богатству ( Xen. Oeck., 2, 2 – 9 ). Как Платон, так и Ксенофонт, оба свидетельствуют о том, что тема воздержанности была близка Сократу и часто становилась предметом обсуждения в его беседах, включая и защитную речь на суде, где он даже бравировал своей бедностью ( Xen. Memor., I, 5, 1 – 5; III, 14, 2 – 7; IV, 5, 1 – 12; Plat., Apol, 31b – c, 38 b; Gorg. 507 a, e. etc. ). Благодаря своей воздержанности Сократ приобрел удивительную закалку и был способен обходиться минимальными потребностями и переносить всяческие лишения, всегда сохраняя спокойствие духа ( Xen. Memor., I, 2, 1sqq; I, 3, 5 sq; Plat. Symp., 220a – b ).
Таким образом, бедность Сократа была не случайным явлением, но его принципиальной и осознанной жизненной позицией[46]. Как сказано, воздержанность была для него основой добродетели, а следовательно, и творчества. В результате, образ жизни и творческий принцип оказываются у него нераздельно слиты. И в этом позиция Сократа явилась революционной, идущей вразрез с господствующей тенденцией и самим духом времени. В эпоху, когда большинство увлеклось погоней за деньгами и «евростандартами», нашелся вдруг один чудак, который бросил открытый вызов господствовавшим ценностям. Выбрав радикально «несовременный» образ жизни он сознательно встал в оппозицию к обществу и поставил себя в положение аутсайдера. Естественно, что из- за этого ему приходилось выдерживать колоссальный натиск со стороны окружающего мира. Отголоски этой борьбы отразились в текстах. Помимо Антифонта в бедности его упрекали и другие софисты. Так, например, в «Горгии» они проповедуют власть силы и богатства, а заодно с издевкой советуют Сократу бросить пустые философские разглагольствования и брать пример с сильных, знаменитых и богатых ( Plat., Gorg. 483a ff, 486c). Он же в ответ им говорит о воздержанности и о том, что счастье заключается не в деньгах, а в справедливости и т.д. ( Ibid., 470e, 491e ). Легко представить, что таких нападок было гораздо больше, и не только со стороны образованных софистов…Но это была его добровольная плата за свободу, которую он обрел в себе.
Понятно, что для удержания столь необычной и чуждой окружающему миру позиции Сократ должен был обладать колоссальными духовными силами. В текстах мы легко находим их источник – это его вера. Отвечая Антифонту он так объясняет свой базовый принцип: «не иметь никаких потребностей есть свойство божества, а иметь потребности минимальные – значит быть очень близким к божеству» ( Xen., Memor. I, 6, 10 ). Тем самым его образ жизни получает метафизическое обоснование. Круг замыкается: вера Сократа в метафизическую истину формирует его мировоззрение, она же задает ему базовые ценности, определяет его образ жизни, а главное, дает ему смысл этой жизни, он же и смысл творчества, который заключается в служении добродетели, т.е., идеалу, т.е., божеству, т.е., той самой метафизической истине, которую он полагает источником своей веры. С предельной ясностью это выражено в «Апологии» у Платона – там Сократ открыто заявляет, что он всю свою сознательную жизнь служит богу ( Plat., Apol. 21e, 23c, 29d, 30a;также: Phaed., 85b ). Благодаря этому он полагает себя обладающим истиной ( Plat., Gorg. 472b, 526d ) и становится пророком на службе у истины. Служение это состоит в том, что он, забросив домашние дела и не заботясь о богатстве, славе, карьере и всем том, о чем заботится большинство, но занимаясь вместо этого философией, старается принести пользу своим согражданам ( Plat., Apol. 29d – 30b, 36b – d; Gorg. 526d )[47]. Он убежден, что делать это ему поручено богом, а значит, занимаясь философией и беседуя с людьми, он выполняет божественную миссию ( Plat., Apol. 33e ).
Интеллектуальное творчество Сократа воплощалось в его новых идеях и смыслах, которые он творил в своих беседах с людьми. Поэтому он сам о себе сказал, что вел свои разговоры только ради высшего блага ( prov” to; bevltiston ) и никогда – ради угождения или удовольствия, как софисты ( Plat., Gorg. 521e). Идея служения, как мы видели, была ненова для греческой культуры, но Сократ наполнил ее новым содержанием, подняв на небывалую высоту. У него смысл жизни и смысл творчества полностью совпали в его новой концепции служения людям, божеству, истине. В этом он действительно был, с одной стороны, греческим традиционалистом, а с другой стороны, новатором, открывшим новые горизонты, невидимые пока его согражданам[48].
Итак, в спорах Сократа с софистами по поводу смысла интеллектуального творчества столкнулись не просто две разные точки зрения, но два цельных мировоззрения. Именно разность, даже противоположность мировоззрений и определила столь разные подходы к пониманию «умного» творчества, т.е., прежде всего, к искусству слова. Софисты представляли новое, «прогрессивное» мировоззрение новой эпохи, которое определяется антропоцентрическим, материалистическим и релятивистским видением мира, уже тогда снабженное целым комплектом постмодернистских ценностей. Сократ противопоставил им консервативную теоцентрическую модель мира с базирующимися на ней морально – этическими ценностями. Эти базовые установки определили различие в жизненных приоритетах: если для софистов целью жизни было материальное процветание, то для Сократа – добродетель и служение богу, истине, людям. Именно отсюда произошла и разность в понимании задач интеллектуального творчества – для софистов это было достижение материальных благ, власти и славы, а для Сократа – служение высшим идеалам. Именно тогда, в столкновении Сократа с софистами эти две позиции окончательно оформились, а затем, благодаря гению Платона, были впервые четко сформулированы и увековечены в текстах. С тех пор, собственно говоря, по сути ничего не изменилось и всякое творчество по – прежнему должно самоопределяться в выборе пути.
[1] При таком подходе поэзия и нефилософская проза попадают в эту категорию лишь частично – постольку, поскольку имеют отношение к созданию новых смыслов. В – основном же, конечно, речь идет о риторике и философии, имея в виду также и другие тексты, так или иначе содержащие в себе артикулированные идеи и смыслы.
[2] Как верно заметил Йегер, сложность состоит в том, чтобы определить, с какого места в тексте становится больше Платона, чем Сократа Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека ( эпоха великих воспитателей и воспитательных систем ). Т. 2. Москва, 1997. С. 67. См. также: Chroust A.- H. Socrates: Man and Myth. London, 1957. P1ff;Guardini R. Der Tod des Sokrates. Mainz, 1987. S. 12f, 80 – 99; Stone I. F. Der Prozess gegen Sokrates. Wien, 1990. S. 17; Martens E. Die Sache Sokrates. Stuttgart, 1992. S. 13f; Böhme G. Der Typ Sokrates. Frankfurt / Main, 1992. S. 17; Navia L.E. The Socratic Presence: A Study of the Sources. N.Y. 1993; Wallach J. The Platonic Political Art. UniversityPrk Pennsylvanina, 2001. P. 86ff. etc… Поскольку источники дают нам весьма нечеткую и местами противоречивую картину, сегодня нет недостатка в авторах, которые, ничтоже сумняшеся, разрубают Гордиев узел одним махом, объявляя всю античную литературу о Сократе литературной фикцией, позволяющей говорить лишь о «литературном образе» Сократа, а не о нем самом – см. например: Martens E. Op. Cit. S. 13; Böhme G. Op. Cit. S. 25f, 31; Gigon O. Sokrates. Bern, 1947. S. 14; Dupréel E. La légende Socratique et le sources de Platon. Bruxelles, 1922; Fischer J. L.The Case of Socrates. Prag, 1969; Waterfield R. Why Socrates Died. Dispelling the Myts. London, 2009. P. 10ff; Рассел Б. История западной философии. Москва, 2002. С. 107. etc… Мне такой гиперкритический подход кажется неприемлемым, т.к. он опирается не на строгие доказательства, а на вольные интерпретации самих авторов, берущих за основу деструктивный принцип «презумпции виновности» источников.
[3] См. например: Burnet J. Greek Philosophy. London, 1914.; Maier H. Sokrates. Tübingen, 1913. S. 103f, 147f,156; Pohlenz M. Aus Platos Werdezeit. Berlin, 1913;Guthrie W. K.C. Socrates. Cambrige, 1971. P. 29 – 35; Pleger W. Sokrates. Der Beginn des philosophischen Dialogs. Hamburg, 1998.S. 96f.; Benson H. Socratic Wisdom. N.Y., 2000; Йегер В. Указ. Соч. С.108 слл. Etc., etc…
[4] См.: Jöel K. Der echte und xenophontische Sokrates. Berlin, 1893 – 1901; Maier H. Op. Cit. S. 20 – 77;Pleger W. Op. Cit. S. 80ff, 99; Chroust A.- H. Op. Cit. P. 2ff; Mosse C. Der Prozess des Sokrates. Hintermänner, Motive, Auswirkungen. Freiburg, 1999. S. 65; Böhme G. Op. Cit. S. 29f; Colaiaco J.A. Socrates against Athens. Philosophy on Trial. N.Y., 2001. P. 2f, 17 – 21 etc.; Йегер В. Указ. Соч. С. 54. Я солидарен с мнением С. И. Соболевского, который считал Ксенофонта хорошим источником по Сократу: Соболевский С. И. Комментарии. Воспоминания о Сократе // Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. Москва, 1993. С. 285 – 291. Главными аргументами в пользу Ксенофонта, на мой взгляд, является то, что у него не было собственной философии, которую он мог бы вложить в уста Сократа, а также то, что его диалоги гораздо больше похожи на настоящие беседы, чем длинные и сильно литературизированные диалоги Платона. И, хотя целью Ксенофонта было оправдать своего учителя, это еще не повод обвинять его во лжи или фальсификациях, ведь для оправдания честного человека нужна именно правда, а не вымысел. Наконец, следует учитывать и то, что Ксенофонт не мог сочинять неправду о вещах, широко известных его читателям. Он мог только приукрашивать, но не лгать.
[5] Несмотря на это, уже в античности Платону были адресованы упреки в очернительстве людей, изображенных в его диалогах ( Athen., XI, 504f – 509e ). Однако, традиция эта уже не только посмертная, но и вообще поздняя, к тому же, очень неточная в деталях, с приписками, и вообще, откровенно враждебная Платону, так что все вместе это делает ее недостоверной.
[6] В наше время господствует критическое отношение как к Платону, так и Ксенофонту. С одной стороны, их тексты, как сказано, объявляются до такой степени вольной литературой, что делается вывод о невозможности нахождения в них «исторического Сократа». В подтверждение этого обычно приводится список несовпадений и противоречий в изображении Сократа обоими авторами ( например: Dorion L.A. Xenophon’s Socrates // S. Ahbel – Rappe, R. Kamtekar ( Eds ). A Companion to Socrates. Blackwell, 2006. P. 93 – 109). При этом, конечно же, обходятся молчанием гораздо более серьезные совпадения…Что же касается различий, то ведь понятно, что при другой интерпретации их легко можно либо рассыпать, либо свести на нет и обратить в доказательства противоположного тезиса, т.к. при отсутствии достоверных фактов, в искусстве построения аргументации все зависит от позиции пишущего автора и его сноровки. С другой стороны, Платона с Ксенофонтом обвиняют в стремлении оправдать своего учителя, из чего также следует заключение о непригодности их как источников по Сократу. Таким образом, например, доказывается неподлинность обеих «Апологий», до недавних пор считавшихся главными текстами для реконструкции Сократа – см.: Danzig G. Apologizing for Socrates: Plato and Xenophon on Socrates’ Behavior in Court // Transacitons of the American Philological Association. Vol. 133. Nr. 2, 2003. P. 281 – 321; см. также: Waterfield R. Why Socrates Died: Dispelling the Myths. London, 2009. P. 9ff. Мне такой подход представляется шараханьем из одной крайности в другую. Как уже сказано, оправдание еще не означает лжи. Если судить непредвзято, то у нас нет доказательств недобросовестности обоих авторов, а есть лишь подозрения. Логичней полагать, что эти писатели все-таки заботились о своей репутации, а потому могли себе позволить лишь приукрасить или проинтерпретировать факты, но не сочинять небылицы. Думается, у них не было оснований для сознательной фальсификации образа Сократа – см.: Кессиди Ф. Х. Сократ. Москва, 1988. С. 14. Вообще же, состояние историографии по вопросу о Сократе дает повод задуматься и отрефлектировать ситуацию в целом. Понятно, что источники дают нам неясную, затуманенную субъективизмом картину, но показательно то, как меняется отношение к ней с течением времени. Если предыдущие эпохи имели склонность доверять источникам и идеализировать Сократа, то наше время отмечено прямо противоположной тенденцией – сейчас идет повальный демонтаж «светлого образа», источники дисквалифицируются, софисты оправдываются, а в Сократе ищут темные стороны и уже густыми слоями наводят на него тень. Вообще здесь прослеживается общая черта времени: похоже, что наша эпоха просто не выносит героев и по возможности стремится смешать их с грязью. Если прежние эпохи создавали образы героев, то наша их разрушает. Сократ – лишь один пример в числе многих. Следовательно, здесь мы имеем дело уже не столько с прогрессом научного знания, сколько с идеологическими установками. С научной точки зрения сегодняшний «демонтаж Сократа» оправдан не более, чем его прежняя идеализация. И то и другое в равной степени доказуемо и недоказуемо. Поэтому, говоря о современной критике сократовской традиции, речь может идти скорее о диагнозе нашей эпохи и нашего сознания, чем о научном прогрессе. Все наши концепции, как положительные, так и отрицательные, строятся на гипотетических предположениях, а потому в равной степени обоснованы / необоснованны. Но если это так, то самое правильное в данной ситуации – придерживаться золотой середины здравого смысла и не впадать в крайности.
[7] См. например: Maier H. Op. Cit. S. 256ff; Böhme G. Op. Cit. S. 29; Mosse C. Op. Cit. S. 148; Martens E. Op. Cit. S. 28f. Эти идеи получили распространение в XX в., в рамках тенденции по реабилитации софистов: Johnson S. Skills, Socrates ad the Sophists: Learning from History // British Journal of Educational Studies. Vol. 46. Nr. 2, 1998. P. 202ff.
[8] Maier H. Op. Cit. S. 198ff,257;Martens E. Op. Cit. S. 29; Waterfield R. Op. Cit. P. 14.
[9] Maier H. Op. Cit. S. 257 – 261.
[10] Однако некоторые авторы пытаются получить из этой комедии какое-то представление о личности Сократа: Mhire J.J. Socrates as Citizen? The Implications of Socratic Eros for Contemporary Models of Citizenship. University of Louisiana at Lafayette. 2006. P. 21f, 28ff, 35 – 59. Основанием для этого служит логичное допущение, что комедия, хотя и создает карикатурный образ, но предполагает, что этот образ должен быть узнаваем: Taylor A. E. Socrates – the Man and his Thoughts. N. Y., 1953. P. 20; Strauss L. The Rebirth of Classical Political Rationalism. Chicago, 1989. P. 110, 133. Тем не менее, не следует забывать об условности, ограниченности и целевой направленности комедии. Ее задачей ни в коей мере нельзя считать создание верного образа пародируемого человека. Конечно, он должен быть узнаваем, но в то же время он не может быть совсем точным, подобно шаржу, нарисованному профессиональным художником. Шарж дает в чем – то верное представление о человеке, но наделяет его весьма гипертрофированными чертами, которые не позволяют принять шарж за нормальный портрет. То же самое относится и к греческой комедии. Одним словом, данные «Облаков» Аристофана могут нам в чем-то помочь при реконструкции «реального» Сократа, но их никак нельзя принимать за «perfect source material», как это кому-то кажется (Mhire J.J. OP. Cit. P. 22). Столь же курьезным выглядит попытка приравнять ценность данных Аристофана к данным Платона с Ксенофонтом, на том якобы основании, что, дескать, все эти тексты есть не что иное, как литературная беллетристика ( fiction ), а раз так, то все они в равной мере искажают правду: Woodruf P. Socrates among the Sophists // A Companion to Socrates… P. 36. Это уже явный перебор, ведь необходимо все-таки различать жанры, тексты, авторов…
[11] Это становится очевидным даже на примере сугубо формальных показателей, если сравнение производится по-научному корректно. Тогда выясняется, что, несмотря на отдельные, чисто внешние точки совпадения, большинство показателей диаметрально расходятся: Woodruf P. Op. Cit.P. 38 – 45.
[12] Правда, и тут некоторые сторонники софистов уже издавна стремятся умалить значение этого вопроса, пытаясь представить дело так, будто у Сократа не было никаких серьезных расхождений с софистами по поводу платы за учебу: Maier H. Op. Cit. S. 190f; Böhme G. Op. Cit. S. 28 f. Надо сказать, что это совершенно произвольная интерпретация, основанная на полном игнорировании данных источников. Но если до такой степени не доверять источникам, то у нас не остается вообще никаких оснований для разговора, и, следовательно, все гипотетические построения относительно софистической, или любой другой природы сократовского учения, просто повисают в воздухе, будучи из пальца высосанными.
[13] Böhme G. Op. Cit. S. 29. В свою очередь, еще в начале прошлого века Генрих Майер, весьма сильно сочувствовавший софистам, аналогично наплевав на источники, заявил, что Сократ- де ничего не имел против взимания платы за учебу, и что он якобы выступал лишь против того, чтобы софисты называли своих последователей учениками: Maier H. Op. Cit. S. 190f. Воистину, нет предела тенденциозности исследователей, когда дело касается их идеологических убеждений! Причем, что интересно, эта тенденциозность имеет место в рамках пресловутого позитивизма, позиционирующего себя в качестве «объективного» способа исследования, будто бы лишенного всякого субъективизма. Как видно, эта амбиция не соответствует действительности…
[14] Ксенофонт цитируется в переводе С.И. Соболевского.
[15] Эти идеи были настолько революционными, что уже в наши дни оказалось возможным, – и не без основания, – объявить его первым в истории анархистом: Лурье С.Я. Антифонт – творец древнейшей анархической системы. М., 2009.
[16] Суриков И. ANTIPHONTEA III. Друзья и враги Антифонта (просопографический этюд) // Studia Historica VIII. М., 2008. С. 77 слл.
[17] К этому можно добавить и естественный фактор конкуренции – см.: Суриков И. Указ. Соч. С.83.
[18] Перевод А. С. Ошерова.
[19] Для непредвзятых исследователей это является непреложным фактом, имеющим подтверждение в источниках и помимо Платона: Romilly J. De. The Great Sophists in Periclean Athens. Oxford, 2002. P. 134 – 161.
[20] Сегодня, на языке политкорректности, такая моральная безответственность софистического искусства характеризуется как позиция «этически нейтрального», чистого искусства / мастерства: Johnson S. Op. Cit. P. 201, 204.
[21] См. например: Maier H. Op. Cit. S. 198ff, 201ff; Martens E. Op. Cit. S. 28f.; Böhme G. Op. Cit. S. 28; Irmscher I. Sokrates.Leipzig, 1985. S.69; Johnson S. Op. Cit. 203ff; Woodruf P. Op. Cit.P. 37ff. etc., etc…
[22] Например: Maier H. Op. Cit. S. 241f, 253, 257f; Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты, Сократ, Платон. М., 2000. C. 11.
[23] На мой взгляд, софистов вполне можно считать, как это делает А.Ф. Лосев, также и декадентами: Лосев. А.Ф. Указ. Соч. С. 93. Правда, по непонятной причине, в декаденты он записал и Сократа, поставив его в один ряд с софистами: Там же. С. 93. Такая интерпретация кажется мне очень странной, но это уже другой разговор.
[24] Кстати, именно поэтому в «Домострое» Ксенофонта Сократ иронично подтрунивает над Исхомахом, когда тот рассказывает о том, как его отец научился извлекать прибыль из сельского хозяйства , занимаясь скупкой, улучшением и перепродажей земельных участков ( Xen., Oec. 20, 22 – 29 ). Этот эпизод ясно показывает, что Сократу, как традиционно мыслящему человеку, кажется неприемлемой любая деятельность, имеющая целью наживу.
[25] Это уже давно подмечено: Maier H. Op. Cit. S. 254.
[26] Далее в разговоре выясняется, что Гиппий умудрился- таки и в Спарте заслужить успех своими речами, но не в качестве учителя добродетели, а как рассказчик о родословных, деяниях старины и даже как сочинитель нравоучительных историй ( Ibid., 285 d – 286b ). Тем самым показывается, во – первых, беспринципность софиста, готового приноровиться под любой заказ, а во-вторых, его неспособность быть полезным в самом главном – в приобретении доблести.
[27] О силе уважения, которое люди питали к поэту, свидетельствует один эпизод у Гомера: когда Одиссей учинил расправу над женихами, он оставил в живых только певца Фемия, да глашатая Медонта, за которого просил Телемах: Оd., XXII, 330 – 377.
[28] Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека. Т.1. пер. А. И. Любжина. 2001. С. 41 – 56.
[29] Буквально это выглядит так: «бог мне в душу вложил разные песни» ( qeo;” dev moi oi[ma” pantoiva” ejnevfusen).
[30] Перевод В. Жуковского.
[31] Seybold K., Ungern-Sternberg J. von. Amos und Hesiod. Aspekte eines Vergleichs // Anfänge politisches Denkens in der Antike / Hrsg. K. Raaflaub. München, 1993. S. 215–239.
[32] См.: Jaeger W. Solons Eunomiа // Antike Lyrik. Hrsg. W. Eisenhut. Darmstadt, 1970. S. 7–31; Manuwald B. Zu Solons Gedankenwelt // Rheinisches Museum für Philologie. Bd. 132. Heft 1.1989. S.12ff.
[33] См.; Йегер В. Указ. Соч. Т.1. С. 196– 210.
[34] Значение обоих для воспитания ( пайдейи ) было подробно и, кажется, исчерпывающе описано Вернером Йегером: Йегер В. Указ. Соч. Т.2. С. 59 – 100, 108 – 139 etc.
[35] Еврипида следует исключить именно из-за его идейной близости к софистам. Кстати, в одном фрагменте у него есть такие слова: «ненавижу мудреца, который мудр не для себя» ( Fragm. 95 N. – Sn. ). Похоже, Еврипид в какой-то мере разделял взгляды софистов на смысл творчества.
[36] См.: Йегер В. Указ. Соч. Т.1. С. 127 – 154.
[37] Redfield J. M. Nature and Culture in the Iliad: the Tragedy of Hektor. Chicago, 1975. P. 41.
[38] Перевод С. П. Маркиша.
[39] Этот диалог содержит столь много принципиальных положений, что его можно считать своего рода манифестом сократовской ( и сократической ) мысли; поэтому он издавна привлекает к себе особо пристальное внимание исследователей: Kahn Ch. Drama and Dialectic in Plato’s Gorgias // Oxford Studies in Ancient Philosphy. 1. 1983. P. 75 – 121; Klosko G. The Refutation of Callicles in Plato’s Gorgias // Greece and Rome, 31, 1984. P. 126 – 139; Йегер В. Указ. Соч. Т. 2. С. 140 – 168. еtc., etc…
[40] Конечно, в наши дни предпринимаются попытки показать, что смысл диалога вовсе не такой, каким он кажется при обычном прочтении, и что, дескать, Калликл – главный оппонент Сократа в Горгии – вовсе не такой гедонист, каким он кажется, и что Сократ вовсе не то хочет сказать, что он говорит, и т.д. и т.п.- например: Stauffer D. Socrates and Callicles: A Reading of Plato’s Gorgias // The Review of Politics. Vol. 64. Nr. 4. 2002. P. 647f, 654ff. Однако при здравом, непредвзятом прочтении, все это кажется беспочвенной софистической риторикой, пытающейся увидеть в тексте то, чего там нет, с одной лишь целью – сделать софистов еще «белее» и «пушистей», а на Сократа бросить тень, представив его по возможности «не таким», «ненастоящим». Однако все это белыми нитками шито.
[41] Этот аспект «Горгия» не раз обсуждался в параллель к еврипидовской «Антиопе», где в знаменитом диалоге Зета и Амфиона ставилась та же проблема: Nightingale A.W. Plato’s Gorgias adn Euripides’ Antiope // Classical Antiquity. 11, 1992. P. 121 – 141; Stauffer D. Op. Cit. P. 627 – 657; Фестюжьер А. – Ж. Созерцание и созерцательная жизнь по Платону. Пер. А.С. Гагонина. Спб., 2009. С. 35слл.
[42] Тем не менее, эти данные вполне можно изучать на предмет религии Сократа: Bussanich J. Socrates and Religious Experience // A Companion to Socrates… P. 200 – 213.
[43] Поэтому надуманной и искусственной кажется попытка отделить «исторического» Сократа от «выдуманного» Платоном по признаку метафизики, как это делает Властос: будто бы первый Сократ был лишь моралистом и ироником, а второй – метафизиком: Vlastos G. Socrates. Ironist and Philosopher. Cambrige, 1991. P. 47ff. В том- то и заключается вся суть сократовской моральной философии, что она питается метафизикой, и из нее же вытекает. Без этой метафизики вся жизнь и деятельность Сократа, равно как и вся его мудрость, повисают в воздухе без объяснения. Нелепой кажется также попытка свести феномен Сократа к исследованию терминов: Martens E. Op. Cit. S. 154ff. Любому непредвзятому читателю ясно, что такие исследования для Сократа являлись лишь средствами, инструментами, а не самоцелью.
[44] Фестюжьер А. – Ж. Указ. Соч. С. 64сл., 69 слл.
[45] Поэтому довольно странным и экстравагантным представляется мнение, будто бы Сократ не был религиозным человеком, т.к., дескать, у его мудрости не было сакрального источника, он не основал свою церковь, и он мало говорил об обязанностях человека перед богом: Montgomery J. D. Introduction. The Unfinished Trial // J.D. Montgomery ( Ed. ). The State versus Socrates. A Case Study in Civic Freedom. Boston, 1954. P. 4ff. Совершенно очевидно, что эта точка зрения вызвана завышенными ожиданиями, в соответствии с современными представлениями о религии. Конечно, Сократ понятия не имел о божественном Откровении, но от этого его религиозность не перестает быть религиозностью. Как уже сказано, у нас достаточно материала для заключения о его теоцентрической картине мира, даже если многие детали этой картины остаются спорными и могут быть приписаны Платону.
[46] Зная все это, кажется по меньшей мере нелепым курьезом попытка оспорить факт бедности Сократа и доказать его принадлежность к высшим слоям общества, на том лишь основании, что среди его слушателей было много аристократов и богатых людей: Wood E. M., Wood N. Class Ideology and Ancient Political Theory. Socrates, Plato and Aristotle in Social Context. Oxford, 1978. P. 3, 5f, 82f, 94ff, 103, 261 etc. См. также: Waterfield R. Op. Cit. P. 58f. Чтобы утверждать такое, нужно, опять же, полностью наплевать на все источники.
[47] Кстати, очень может быть, что именно поэтому он, в отличие от странствующих по свету в поисках заработков софистов, никогда не покидал свой город, но всегда оставался в нем, даже подвергая себя при этом опасности. Это становится понятным, если принять, что смыслом его жизни было служение родному городу.
[48] В результате, как верно заметил В. С. Нерсесянц, Сократ оказался посередине между традиционной греческой верой и новомодной позицией софистов, чуждый и той и другой стороне, т.к. традиционалисты видели в нем софиста, а софисты – традиционалиста: Нерсесянц В. С. Сократ М., 1984. С.21. По словам А. Ф. Лосева, такое часто бывает с переходными фигурами, которые невыносимы ни для старых, ни для новых идеалов: Лосев А. Ф. Указ. Соч. С. 93. Правда, эта фраза скорее красивая, чем верная, т.к. Сократа вряд ли можно считать переходной фигурой. В самом деле: от кого и к кому был этот переход? От традиции к софистам? Нет, конечно! Только от традиции к Платону, но как определить суть такого перехода? Да и был ли вообще переход? Мне представляется, что Сократ и Платон, хотя каждый и сам по себе, но оба вместе являют собой один общий феномен в его развитии. Можно сказать, оба они слились в одном феномене на двоих. Они оба были традиционалистами, но уже совершенно нового типа. На базе традиции они построили свой новый мир, общий для них обоих. Это был именно новый виртуальный мир идей, хотя и на фундаменте старинных ценностей. Они ниоткуда и никуда не переходили, но сразу создали свой новый мировоззренческий и философский космос на базе материала, предоставленного им традицией.