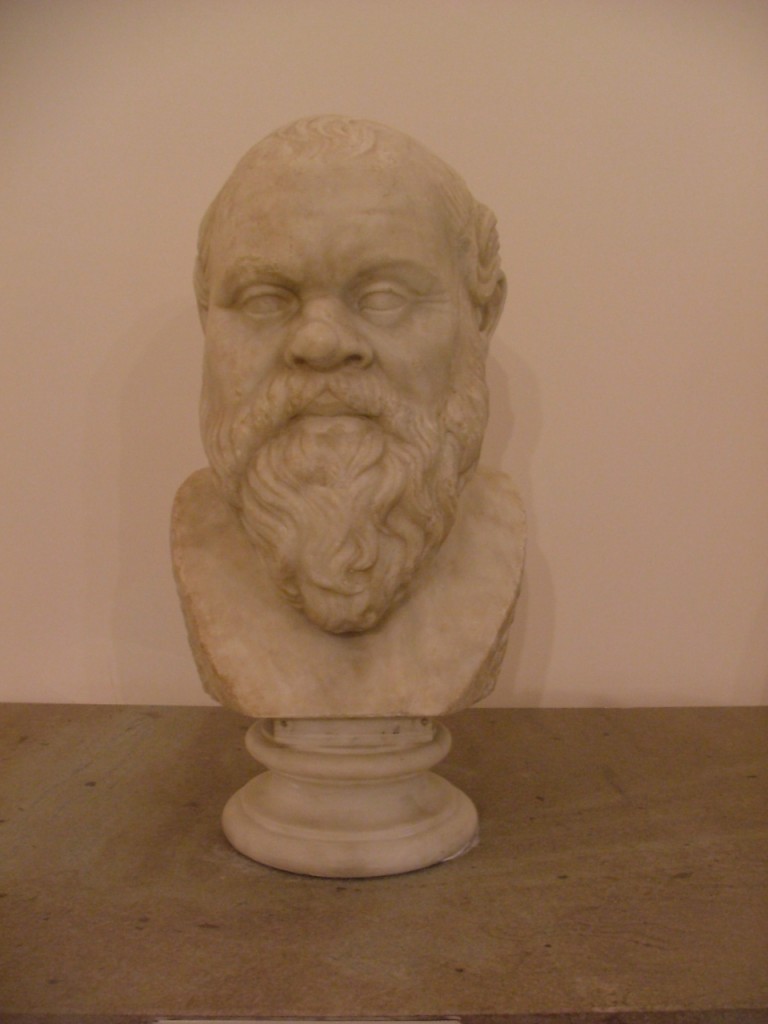Dr. hist. Харийс Туманс
«СКОЛЬКО ПAТРИОТИЗМОВ БЫЛО В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ?»[1]
( Статья была опубликована в журнале: Studia historica. XII, М., 2012. С. 3 – 32)
Этот вопрос возник у меня под впечатлением от статьи С. Г. Карпюка «два патриотизма в «истории» Фукидида»[2]. В данной статье рассматриваются проявления двух патриотизмов в тексте Фукидида, которые, по мысли автора, суть традиционный полисный патриотизм, ставящий на первое место благо родного города, а также новый патриотизм софистического типа, отдающий предпочтение интересам индивида[3]. Первый тип патриотизма наиболее яркое выражение получил в знаменитой надгробной речи Перикла ( Thuc., II 35 – 46 ), а воплощение второго типа автор видит в речах и поступках Aлкивиада. Тезис, безусловно, очень интересный, и, как таковой, он побуждает к размышлениям и провоцирует вопросы. В частности, у меня возникло сразу два вопроса: во-первых, возможно ли существование разных патриотизмов в рамках одной культуры? И во-вторых, действительно ли Aлкивиада можно считать представителем нового, софистического отношения индивида к полису? И какое вообще он имеет отношение к патриотизму? В рамках данной статьи я попробую дать ответ эти вопросы, не претендуя на всестороннее рассмотрение всей проблематики древнегреческого патриотизма.
Что касается множественности патриотизмов, то мне представляется, что здесь дело обстоит так же, как и со свежестью – как не может быть «второй свежести», так не может быть и двух патриотизмов. По крайней мере, в рамках одной культуры и одновременно. Ведь если под патриотизмом понимать любовь к родине[4], то следует признать, что она либо есть, либо ее нет… Хотя, конечно, с другой стороны, вполне можно говорить о двух патриотизмах в древней Греции, а именно, о патриотизме полисном и патриотизме общегреческом[5]. Однако это уже другая тема, а здесь речь идет лишь о полисном патриотизме.
Естественно, сразу следует оговорить, что древнегреческий патриотизм носил политический характер, а не национальный, как то привычно нашему сознанию. Это означает, что, в отличие от нас, для древнего грека на первом месте стояли не национальные эмоции, которых еще не было и быть не могло[6], а чувство принадлежности к общему «дому», т.е. к сообществу людей, с которым его соединяло множество различных связей. В результате, как уже не раз отмечалось, невозможно применять к древнему греку наши современные понятия «любви к отечеству» в стиле Vaterlandsliebe [7]. Вместо этого под эллинским полисным патриотизмом следует понимать, во-первых, лояльность к полису как политическому сообществу, т.е., как к государству ( полис как koinoniva – в том смысле, как это понимает Аристотель – Arist. Pol., 1253a 9 ), а во-вторых, естественные и свойственные любому нормальному человеку личные чувства любви и привязанности ко всему родному, хотя и с естественной оговоркой, что древние греки воспринимали и чувствовали эти вещи совсем не так, как мы сегодня. При этом и то и другое подразумевает желание и готовность защищать родину, что совпадает с прямой обязанностью гражданина. В итоге мы получаем по крайней мере две составляющие древнегреческого патриотизма: минимальную – в смысле политической лояльности, и оптимальную – в смысле личной привязанности к родному «дыму отечества». В идеале это означает, что древнегреческий гражданин должен был ставить интересы полиса выше своих собственных.
Как бы то ни было, все это представляется нам весьма туманно, поскольку не было у древних греков ни нашего понятия патриотизма, ни термина соответствующего, ни даже текстов, поющих любовь к отечеству в привычном для нас смысле, да и вообще, похоже, что наши современные «сантименты» были им чужды. А кроме того, их взаимоотношения с родным полисом отличались весьма большим разнообразием, что зачастую приводит нас в недоумение. Чтобы хоть частично разобраться с этим, мне представляется целесообразным выделить один критерий, позволяющий более или менее конкретно идентифицировать наличие или отсутствие у древнегреческого индивида «любви к отечеству» в той степени, которая могла бы, по нашим понятиям, соответствовать параметрам патриотизма. Я имею в виду готовность и способность индивида подчинять свои интересы интересам своей родины, или же отсутствие таковой[8]. Благодаря этому более или менее отчетливо вырисовывается контур того патриотизма, о котором можно говорить касательно древней Греции. Вместе с тем, такая постановка вопроса позволяет внести хоть какую – то минимальную ясность в темный и неясный по природе предмет, делая его доступным обсуждению.
В данном контексте вопрос о патриотизме Алкивиада предстает совсем в другом свете. Как сказано, С. Г. Карпюк констатирует у Фукидида наличие двух позиций индивида по отношению к полису в классических Афинах, которые представлены фигурами Перикла и Алкивиада. Исходя из сказанного, из них патриотической в собственном смысле слова можно назвать только первую позицию, вторая же являет собой по сути дела полную противоположность ей, т.е. отказ от патриотизма ради собственной выгоды. По мысли С. Г. Карпюка, точка зрения Алкивиада отражает новую тогда систему взглядов, обоснованную софистами и нашедшую отражение в целом ряде источников ( Eurip. Fragm. 777, 1047; Aristoph. Plut.1151; Lys. XXXI, 5 – 6 )[9]. По моему же убеждению, Алкивиад представляет совсем другой тип отношения к полису, весьма отличный от «новомодного» тогда софистического принципа ubi bene, ibi patria. Его позиция, как я полагаю, коренится не в современной ему действительности, а в глубоких традициях прошлого, уходящих корнями сквозь века архаики в толщу «темных времен» гомеровской эпохи. Другими словами, история греческого патриотизма мне видится в другом свете.
Эволюцию отношения древнего грека к своему полису очень наглядно показал Габриэль Херман в самом начале своей монографии о дружбе[10]. Он привел два очень ярких примера, которые позволяют увидеть результат длительного процесса становления и развития полисного патриотизма в греческом сознании.
Стартовую позицию представляет отрывок из «Илиады», в котором описывается, как на поле брани встретились Главк и Диомед – знатные противники, чьи отцы и деды были связаны узами гостеприимства ( Il., VI, 119 – 236 ). Выяснив это, оба воителя, вместо того, чтобы сражаться, подтвердили дружеские связи, соединяющие их семьи, и обменялись оружием как почетными дарами. Диомед при этом произнес следующие слова:
«Храбрый! Отныне тебе я средь Аргоса гость и приятель.
Ты же мне – в Ликии, если приду я к народам ликийским.
С копьями ж нашими будем с тобой и в толпах расходиться.
Множество здесь для меня и троян и союзников славных;
Буду разить, кого бог приведет и кого я постигну.
Множество здесь для тебя аргивян, поражай кого можешь»
( Il., VI, 224 – 229; пер. Н. Гнедича)
Как видно, гомеровские герои ставят отношения дружбы и гостеприимства выше отношений, связывающих их с родным городом. Более того, они договариваются свободно убивать в бою соратников друг друга, оставляя за собой отношения дружбы. Трудно было бы еще более рельефно выразить приоритет личного перед общественным ( т.е. «своя рубашка» важнее родины ). Как показал Херман, для эпического сознания это естественная и закономерная ситуация.[11] В самом деле, для героев на первом месте стоит их личная доблесть и они поступают в соответствии со своим кодексом чести, имеющим для них приоритетное значение. Судьба родного города или сообщества отступает здесь на задний план.
Другой пример также описывает военную ситуацию, но уже много позже, в 394 г. до н.э., когда война столкнула спартанского царя Агесилая и персидского сатрапа Фарнабаза. Ксенофонт рассказывает замечательный эпизод о том, как Фарнабаз явился к Агесилаю с упреками по поводу разорения его владений воинами Агесилая, и напомнил ему о своей прежней дружбе со спартанцами. Его слова заставили всех присутствующих спартанцев устыдиться, а их царь в ответ произнес речь, начав ее следующим образом: «Фарнабаз, я полагаю, что тебе хорошо известно, что и между жителями различных греческих городов часто заключаются союзы гостеприимства. Однако, когда эти города вступают между собой в войну, приходится воевать со всеми подданными враждебного города. И вот теперь мы воюем с вашим царем, и потому вынуждены все, принадлежащее ему, считать вражеским; с тобой же лично мы хотели бы больше всего на свете стать друзьями» ( Xen., Hell. IV, 1, 34; пер. С. Я. Лурье ). В отличие от гомеровских героев, Агесилай подчиняет все личные интересы и обязательства интересам полиса. Если Главк с Диомедом на войне делают исключение друг для друга, то Агесилай не признает никаких исключений, несмотря на дружеские чувства по отношению к противнику. Он действует уже не как частное лицо, а как гражданин[12], его принцип – «дружба дружбой, а служба службой». Это означает победу общего над частным. Независимо от того, что на самом деле говорил Агесилай Фарбнабзу, данный текст фиксирует приоритет общественного начала в мышлении если хотя и не всех, но явно многих греков того времени. Причем логика Агесилая преподносится Ксенофонтом как нормативная и даже образцовая.
Нетрудно заметить, что взгляд Агесилая на обязательства индивида перед полисом, как он представлен у Ксенофонта, по своей сути совпадает с патриотической позицией Перикла у Фукидида.
В своей надгробной речи, Перикл, воспев Афины, славит павших на войне граждан именно за то, что они принесли себя в жертву родному городу: «…и вот за подобный город отдали доблестно свою жизнь эти воины, считая для себя невозможным лишиться родины» ( Thuc., II, 41, 4; пер. Г. A. Стратановского ). Они достойны наивысшей похвалы именно потому, что «добровольно принесли в жертву родине прекраснейший дар – собственную жизнь» ( Thuc., II, 43, 2 пер. Г. A. Стратановского ). При этом Перикл особо отмечает, что павшие герои презрели наслаждение богатством и надежду разбогатеть в будущем ( Thuc., II, 42, 4 ). Таким образом, он ставит им в заслугу именно то, что благо своего города они предпочли собственному благополучию. В данном контексте, знаменитая похвала Афинам, составляющая большую часть речи Перикла (Thuc., II, 36, 4 – 41, 4: 43, 1 ), служит укреплению патриотических чувств афинских граждан, убеждая их в том, что служение такому городу само по себе почетно, а смерть ради него по славе не уступает подвигам гомеровских героев (Thuc., II, 41, 4 ). По сути дела это есть настоящий манифест полисного патриотизма в его наиболее идеологизированном виде. Действительно, Перикл здесь представляет официальную точку зрения руководимого им афинского полиса, т.е. он выступает как самый настоящий идеолог.
В этой связи особенно показательно упоминание в речи Перикла Гомера. До сих пор образцом доблести служили именно его эпические герои. Теперь же Перикл прямо заявляет, что слава нынешних афинян столь велика и очевидна, что для прославления их подвигов уже никакой Гомер не нужен ( Thuc., II, 41, 4 ). Тем самым он не просто противопоставляет новых героев старым, но делает их выше. Поэтому он предлагает гражданам брать пример не с эпических образцов, а с нынешних афинян ( Thuc., II, 43, 4). Такое противопоставление современности прошлому в устах Перикла звучит более чем естественно, т.к. оно продиктовано ему новой гражданской идеологией, подчиняющей интересы индивида общественным ценностям. Гомеровские герои, с их радикальным индивидуализмом и служением долгу чести, в новых условиях оказываются неуместными из- за своей явной «неполиткорркетности». Теперь современность ставится выше еще недавно образцового прошлого. Можно сказать, что это стало результатом «греческой модернизации» или своего рода культурной революции, произошедшей в перикловых Афинах[13].
Надо отдать должное Периклу: он продемонстрировал свой патриотизм не только в речах, но и на деле. Когда в начале Пелопоннесской войны вторгшееся в Аттику спартанское войско под руководством царя Архидама начало опустошать окрестные поля, Перикл, полагая, что его владения скорее всего не пострадают из-за старинных отношений гостеприимства, связывавших его семью с семьей Архидама, чтобы оградить себя от возможных упреков, передал все свои имения в собственность государства ( Plut. Per., XXXIII; Polyaen, I, 36 ). Таким образом, он не просто поступил благородно, но и доказал свою верность заявленным принципам, принеся в жертву родному полису свое имущество и материальное благополучие. Надо полагать, он предусмотрел способ компенсировать потери, но сейчас речь не об этом. В ситуации, когда ему, как и упомянутым выше гомеровским героям, пришлось выбирать между личными обязательствами гостеприимства и благом родного города, он, в отличие от эпических воителей, на первое место поставил свой полис. Даже если это была только поза, продиктованная политическим имиджем, нельзя не признать, что сам поступок как таковой явился выдающимся образцом патриотического поведения, и тем самым, также и способом его пропаганды.
Конечно, Перикл был блестящим пропагандистом идеи полисного патриотизма, но не ее автором. Задолго до него ярким носителем этой идеи был Солон, причем как на словах, так и на деле. Как уже отмечалось в литературе, своим пламенным призывом спасти честь города в борьбе за Саламин, он пробуждал в афинянах политическое сознание и чувство причастности к общему делу[14]. Своей победой и отвоеванием острова он на деле показал силу нового полисного мышления, а своей поэзией он постарался сделать его нормой жизни для своих сограждан. Особенно хорошо это видно в элегии «Благозаконие», где он возлагает на граждан ответственность за судьбы города и пытается мобилизовать их сознание на исправление ситуации ( Sol. Fragm. 3, 5 – 11 Diehl³ ). Коротко говоря, Солон поставил свою музу на служению родному полису и тем самым открыл новую эпоху в истории политической мысли[15]. Фактически он первый поднял ценность общего дела, ценность государства, выше всех частных интересов, и своим личным примером последовательно проводил этот принцип в жизнь. Для полного укоренения этого принципа в политической практике афинян должно было пройти еще немало времени, но Солон сделал первые и решающие шаги в этом направлении[16]. Главная же его заслуга состояла в том, что он заложил основы полисной идеологии в Афинах, которая достигла кульминации и нашла наиболее полное воплощение в той самой надгробной речи Перикла. Причем политический патриотизм занимает в этой идеологии центральное место.
Само собой разумеется, что полисный патриотизм проявлял себя не только в качестве официальной идеологии, но и в другой своей ипостаси, т.е. в чувствах, словах и делах людей. Естественно, их образ мыслей во многом формировался идеологией, но, скорее всего, им и самим были присущи чувства, побуждавшие их любить и защищать родину. Более того, следует полагать, что политики и демагоги не придумывали патриотизм в рамках своих политтехнологий, а лишь сделали официальной нормой то, что и так было уже широко распространено в народе. Собственно говоря, так всегда и происходит: государство стремится поставить себе на службу народный «стихийный» патриотизм, включив его в систему официальной идеологии. Начала же такого «стихийного» греческого патриотизма следует искать там же, где и начала всех вещей в древней Греции, т.е., в гомеровском эпосе. Ведь именно там впервые прозвучал призыв «за отечество храбро сражаться» ( ajmuvnesqaiperi; pavtrh” ), вложенный поэтом в уста Гектора ( Il., XII, 243 ). Позднее этот мотив уже в полную мощь зазвучал в архаической поэзии ( прежде всего у Каллина и Тиртея ), в которой неоднократно поднималась тема гражданской ответственности индивида за судьбы своего полиса[17].
Поэтому неудивительно, что и в реальной жизни греки не раз демонстрировали образцы доблести, сражаясь за свою родной город и за всю Элладу во время греко – персидских войн. Как известно, именно во время противостояния персидскому нашествию патриотические чувства греков максимально обострились, что стимулировало формирование общеэллинского патриотизма[18]. Уже тот факт, что многие полисы сумели объединиться перед лицом общей угрозы, говорит о наличии соответствующих идейных предпосылок в мышлении греков. Эллада и в самом деле оказалась для них «общим домом», символом которого служил общий для всех греков очаг в Дельфах ( Plut. Arist., XX, 4 )[19]. Само собой разумеется, что война с персами подняла на новый уровень и патриотизм локальный, т.е. полисный. Причем не только в смысле военной доблести, но и в смысле предпочтения интересов родного города собственным амбициям и интересам. Достойным примером тому является Аристид, который, если верить Геродоту ( а здесь у нас нет оснований не верить ему ), нашел в себе силы обратиться к Фемистоклу – своему главному политическому противнику и личному врагу – с предложением о сотрудничестве в общем деле, с тем чтобы «состязаться, кто из нас сделает больше добра родине» ( Hdt., VIII, 79; пер. Г. А. Стратановского; см. также: Plut., Arist. VIII ). Таким образом, два известнейших аристократа смогли на время превратить свое состязание за власть в состязание на благо родному полису. Десятью годами раньше, накануне Марафонской битвы, Аристид также отказался от своих амбиций и уступил командование Мильтиаду, что и стало залогом победы ( Plut., Arist.V ). Таким образом, Перикл был не первым афинским аристократом, способным пожертвовать личными интересами ради общественных.
Коротко говоря, война с персами дала мощный импульс для развития патриотических чувств в греческом мире и формирования патриотической идеологии. Благодаря этому смерть за родину стала честью для настоящего гражданина, а подвиг трехсот спартанцев[20], павших в Фермопилах, явил миру канонический образец патриотической доблести, хотя не факт, что он был таковым изначально по своей мотивировке[21].
Так постепенно сложился полисный идеал гражданина, готового отдать жизнь за родину. Поэтому в рассказе Геродота о беседе Солона с Крезом самым счастливым человеком на свете назван афинянин Телл, достойно проживший свой век в цветущую пору своего города, вырастивший детей и внуков, и погибший в бою, храбро сражаясь за родину ( Hdt., I, 30 ). Широко известен также пример Кимона, который, будучи изгнан остракизмом, явился в афинский лагерь накануне битвы при Танагре, чтобы принять участие в сражении со спартанцами, несмотря на то, что у него были дружественные отношения с ними ( Plut. Kim., XVII; Per., X ). Он не был допущен в строй сторонниками Перикла, но его поступок нельзя не признать патриотичным. При этом мотивация Кимона полностью согласуется с мотивацией Aгесилая у Ксенофонта.
Одним словом, со временем полисный патриотизм настолько укрепился, что даже во время Пелопоннесской войны периодически то тут, то там случалось, что граждане отодвигали на задний план «партийные» и «классовые» интересы, и объединялись ради общего дела[22]. Кстати, когда Клеон требовал в народном собрании смертной казни для всех без исключения митиленян, он особенно подчеркнул, что они того заслужили, т.к. восстали против афинян единодушно, все вместе – как народ, так и олигархи ( Thuc., III, 39, 6 ). Тогда же, в годы Пелопонесской войны, возникла идея «всесицилийского» греческого патриотизма, под лозунгом прекращения междоусобных распрей и объединения усилий для противостояния афинской экспансии ( Thuc., IV, 59 – 64 )[23]. В конечном итоге можно утверждать, что именно развитие патриотических идей и тенденций – как локальных, так региональных и общегреческих – стало важнейшей предпосылкой для формирования панэллинской идеологии в позднеклассическую эпоху.
На этом фоне известные поступки Алкивиада выглядят резким диссонансом, и, на первый взгляд, противоречат общей тенденции. Во всяком случае, его биография поражает резкими перепадами в диапазоне «от любви до ненависти» в отношениях с Афинами. Поэтому апатриотичное поведение Aлкивиада издавна привлекает внимание исследователей и вызывает к жизни различные интерпретации. Очевидно однако, что это весьма сложный феномен, неподдающийся простым и прямолинейным толкованиям. Например, невозможно его объяснить только ссылками на некую, якобы присущую Алкивиаду «демоническую природу»[24]. Вызывают возражение также попытки поставить под сомнение или даже полностью отрицать существование полисного патриотизма как такового[25]. Сторонники этой концепции единогласно утверждают, что полисный партикуляризм не означает еще патриотизма, и полагают, что древние греки гораздо больше были интегрированы в локальные объединения – сначала кровнородственные ( род, фратрия, фила ), а затем дружеские и политические ( «партийные» ), чем и объясняются, по их мнению, столь частые в греческом мире случаи предательств[26]. Но, во-первых, как уже было замечено, эти исследователи преувеличивают роль «партийной» составляющей в идеологии тогдашних греков[27]; во–вторых, они сильно переоценивают степень включенности индивидов в локальные корпоративные группы и забывают о доминанте личной харизмы и личных амбиций в греческом мышлении[28]; а в – третьих, они оставляют без внимания все ту же речь Перикла, а также ряд других источников, в том числе, стихи Солона и приведенные выше слова Агесилая у Ксенофонта. Независимо от того, сколько людей нарушали сформулированные в этих текстах принципы патриотизма, важен сам факт их наличия в сознании людей, а этот факт нельзя отрицать уже в силу самого существования данных текстов. Таким образом, дефицит патриотизма у Алкивиада, равно как и у многих других выдающихся греческих политиков, требует иного объяснения.
Мне представляется, что позиция Алкивиада по отношению к родному полису, его знаменитая «охота к перемене мест», характеризуемая чередой предательств, как нельзя лучше вписывается в контекст традиционных аристократических ценностей. Габриэль Херман убедительно показал, что его поступки следует воспринимать не как проявления некоего «нового духа», а напротив, рассматривать их в контексте давних аристократических традиций ритуализированной дружбы[29]. Действительно, все перебежки Алкивиада так или иначе опирались на систему личных связей и традиции гостеприимства[30]. Так, например, еще до своего побега из Афин он был спартанским проксеном и хлопотал о спартанских пленных ( Plut., Alcib. XIV ). Поэтому его бегство в Спарту было вполне обосновано с точки зрения традиционной аристократической морали, и он мог рассчитывать на ответные услуги со стороны спартанцев. Также и все его последующие действия, его жажда славы и почестей, демонстративная роскошь, военные подвиги, триумфальное возвращение в Афины и новое изгнание – все это свидетельствует о том, что он мыслил категориями старинной аристократической этики и добивался первенства традиционными способами. Он реализовывал себя прежде всего на поприще воинской славы, он был избран стратегом с неограниченными полномочиями, пользовался широкой поддержкой в массах и вполне мог стать тираном, если бы сам того захотел ( Plut. Alcib., XXXIII – XXXIV )[31]. Однако амбиции неизбежно и закономерно привели его к столкновению с Афинами и краху[32].
Некоторое представление о том, каким мог быть образ мыслей Aлкивиада по отношению к родному полису, можно получить в труде Фукидида. Там приводится речь, в которой сам Aлкивиад объясняет свою позицию перед спартанцами: «И я надеюсь, что никто здесь не станет думать обо мне хуже оттого, что я, считавшийся в родном городе патриотом, теперь, заодно со злейшими врагами, яростно нападаю на него, или же объяснять мои слова озлоблением изгнанника. Правда, я – изгнанник, но бежал от низости моих врагов, а не для того, чтобы своими советами оказывать вам услуги. Злейшими врагами я считаю не вас, которые открыто на войне причинили вред неприятелю, а тех, кто заставил друзей Афин перейти в стан врагов. Пока я безопасно пользовался гражданскими правами, я любил отечество, но в теперешнем моем положении, после того как мне нанесли тяжелую и несправедливую обиду, я – уже не патриот. Впрочем, я полагаю, что даже и теперь не иду против отечества, так как у меня его нет, но стремлюсь вновь обрести его. Ведь истинный друг своей родины не тот, кто, несправедливо утратив ее, не идет против нее, но тот, кто, любя родину, всячески стремится обрести ее» ( Thuc., VI, 92, 2 – 4; пер. Г. А. Стратановского ).
Независимо от того, как мы решаем вопрос об исторической адекватности этой речи, бесспорным фактом следует признать то, что Фукидид представил здесь не только образец софистической риторики, но и прежде всего, логику индивидуалистического мышления аристократа, в которой поступок Алкивиада и в самом деле получает оправдание. В двух словах, суть этой речи состоит в том, что Алкивиад ставит свою лояльность полису в зависимость от лояльности полиса к нему. В случае несправедливого отношения к себе со стороны полиса, он полагает себя вправе бороться за восстановление своей чести с тем, чтобы вновь обрести отечество, которое он полагает утраченным. Причем эта борьба подразумевает даже военные действия против своего города. По этой логике оскорбленный индивид имеет право сражаться против своего полиса за восстановление своего места в нем, полагая, что это означает борьбу не против отечества, а за него. Правда, такое «возвращение отечества» подразумевает возвращение его лично для себя, а не для отечества как такового. Попросту говоря, это означает все тот же древний принцип превосходства личного начала над общественным. Совершенно очевидно, что во всех начинаниях Алкивиада соображения личного характера преобладают над всеми другими мотивами. В этом смысле он поступает как типичный аристократ архаической эпохи. И, следует признать, что с точки зрения аристократической культуры, он прав. Показательно, что, обращаясь к спартанцам, он явно рассчитывает на их понимание, поскольку хорошо представляет себе их консервативный стиль мышления. Для того, чтобы его поняли в Спарте, ему нужно лишь представить себя поборником традиционных аристократических ценностей, что он и делает в этой речи, или вернее, Фукидид за него.
Однако это еще не все. Сотрудничество Алкивиада со спартанцами против своего полиса во время войны получило моральное оправдание не только со стороны аристократической этики, но и, как ни странно, со стороны классического патриотизма. Эту точку зрения представил Корнелий Непот, доведя аргументацию Алкивиада до логического завершения. У Фукидида Алкивиад говорит, что считает своими врагами лишь тех, из-за чьих происков он был вынужден покинуть родину. С нашей стороны было бы неверно видеть здесь голую софистическую риторику, и Непот показывает, почему. Он разворачивает мысль в полном виде и утверждает, что Алкивиад, по его собственным словам, вел войну не против своего отечества, а лишь против тех самых своих врагов, которые «…понимали, что он может оказать государству большие услуги и вышвырнули его прочь, подчиняясь своей злобе, а не интересам общественной пользы» ( Nep., Alcib. 4; пер. Н. Н. Трухиной). Примечательно, что эти слова говорит римлянин, воспитанный на римской идее патриотизма, которая, как известно, налагала на гражданина гораздо более жесткие требования и обязательства, чем греческая. И, надо сказать, его точка зрения вполне логична и по-своему справедлива. Действительно, враги Алкивиада, злоумышляя против него, и добившись его изгнания, тем самым нанесли огромный ущерб отечеству. Объективно они оказались врагами не только Алкивиада, но и своего полиса. Другое дело, снимает ли это ответственность с самого Алкивиада? Кажется, многие античные люди полагали, что снимает, и тот же Непот всячески подчеркивает, что Aлкивиад любил свою родину, ни при каких обстоятельствах не мог отрешиться от любви к ней ( Ibid., 8 ), и что все помыслы его были направлены на освобождение отечества ( Ibid., 9 ). Видимо это по – своему верно, поскольку, будучи изгнан во второй раз, Алкивиад все-таки не остался равнодушен к судьбе родного города и, пренебрегши чувством собственного достоинства, явился в афинский лагерь под Эгоспотамами, чтобы дельным советом попытаться исправить опасное для афинского войска положение. В ответ он только нарвался на грубость, т.к. стратеги руководствовались исключительно мотивами личного соперничества и пренебрегли, как это всегда бывает в таких случаях, интересами общего дела. В результате, для афинян все закончилось страшной катастрофой ( Xen. Hell., II, 1, 25; Plut., Alcib. XXXVI; Nep., Alcib. 8 ).
Таким образом, феномен «патриотизма» Алкивиада далек от однозначности и, судя по всему, ключ к его пониманию кроется не только в его личности, но и в ментальности его современников. На это ясно указывают некоторые факты. Прежде всего, это восторженный прием, оказанный ему афинянами по его возвращении. Оказалось, что они не только с радостью простили ему измену, но и чуть не боготворили его, осыпая венками, лентами и почестями, причем, как отмечает Непот, такие почести раньше выпадали на долю лишь олимпийских победителей ( Plut., Alcib. XXXVI; Nep., Alcib. 6 ). Кроме того, как утверждает Ксенофонт, многие называли Алкивиада лучшим из граждан, несправедливо пострадавшим от злого умысла людей, занимавшихся государственными делами исключительно ради собственной выгоды, в то время как он всегда содействовал общественному благу ( Xen., Hell. I, 4, 13 ). Теперь вдруг оказалось, что тот, кого вчера предали анафеме как изменника, на самом деле всегда был благодетелем родного города и заботился исключительно об общественном благе! Такая резкая перемена в настроениях афинян, их нетипичная «отходчивость» сама по себе поразительна и требует объяснения. С одной стороны, здесь несомненно сыграло свою роль неповторимое обаяние личности Алкивиада, оказывавшее огромное впечатление не только на современников, но и на позднейших писателей. На эту особенность указал уже Плутарх, отметив, что слава предков, сила слова, красота и крепость тела, равно как и прочие качества Алкивиада, заставляли афинян относиться к нему терпимо, прощать его выходки и находить для них самые мягкие названия ( Plut., Alcib. XVI ). Однако этого было бы явно недостаточно для того, чтобы афиняне так легко забыли о предательстве и потерях, понесенных ими по его вине. Судя по всему, дело намного серьезнее и для понимания его сути необходимо привлечь еще и другие факты.
Итак, Алкивиад возвращался в Афины как прославленный военачальник, имея на своем счету ряд громких побед, которые вернули афинянам надежду на успех, а ему самому открыли дорогу на родину. Описывая его подвиги, источники сообщают одну в высшей степени интересную и важную деталь: воины, сражавшиеся под началом Алкивиада, отказались смешиваться с теми, кто воевал под руководством других командиров и пережил недавно горечь поражения. И только после первого успешного боя, проведенного совместными силами под руководством Алкивиада, воины с радостью соединились в одном лагере ( Xen. Hell., I, 2 15 – 17; Plut. Alcib., XXIX ). Нет сомнения, что здесь мы имеем дело с религиозной верой афинян в харизму своего полководца[33]. А харизма – это дар богов, это проявление божественной силы в человеке. Она воплощается в красоте, силе, таланте, и конечно, в удаче – верной свидетельнице божественного благоволения. В гомеровском эпосе наличие такой харизмы является необходимым условием для всякого героя[34]. Алкивиад обладал всем этим в полной мере и как нельзя лучше соответствовал героическому идеалу. «Сила слова, красота и крепость тела» [35], о которых пишет Плутарх, есть те самые, хорошо известные всем грекам признаки наличия у человека божественной харизмы. Еще больше об этом свидетельствовала его удача, ведь где бы он ни появлялся, за что бы он ни брался, ему везде сопутствовал успех[36]. Именно поэтому его воины, не желая «вспугнуть» свою удачу, отказывались смешиваться с неудачниками. Однако харизма Алкивиада скоро распространилась и на этих горемык, что не могло не увеличить восхищение им в народе. А ведь к его личной харизме добавлялось еще знатнейшее происхождение и богатство. Так что, нельзя не согласиться с таким суждением Непота: «если бы сам Алкивиад захотел что-нибудь придумать себе на пользу, то не смог бы вообразить или добиться больших благ, чем те, что уготовили ему природа и судьба» ( Nep., Alcib. 2; пер. Н. Н. Трухиной). Прекрасно сказано, но есть все основания полагать, что современники Алкивиада на место «природы» поставили бы богов…
Однако какое отношение харизма Алкивиада имеет к патриотизму и измене? На самом деле, самое прямое, ведь именно через концепцию харизмы как религиозного феномена возможно объяснить как поведение Алкивиада, так и реакцию на него афинян, их необычное всепрощение по отношению к нему. Дело в том, что ни он сам, ни те афиняне, которые его восторженно приветствовали, не видели в его поведении предательства. Причем не из-за какой-то изощренной риторики, а именно благодаря религиозной вере в его харизму, блеск которой ослеплял большинство современников. Ведь, согласно этой логике, если человек является носителем харизмы и в нем действует какая-то божественная сила, – а в случае Алкивиада это всем казалось очевидным, – то и обращаться с таким человеком следует почти как с божеством, т.е. источником этой силы. В отношениях же с божеством, как известно, люди своими действиями могут как удостоиться его благоволения, так и вызвать его гнев на себя. Это как раз то, что произошло в отношениях афинян с Алкивиадом: причинив ему несправедливость они обидели не только его, но и ту божественную силу, которая в нем проявлялась, обратив тем самым ее действие против себя. Поэтому понятно ликование афинян и их «забывчивость», когда эта божественная сила вновь стала для них благой и обернулась против их врагов. Этим же можно объяснить и последующее охлаждение афинян к Алкивиаду, т.к. отсутствие быстрых и решающих успехов на войне, вкупе с мелкой неудачей, при желании легко можно было истолковать как потерю харизмы. Или же, что еще хуже, как предательство, поскольку, как пишет Плутарх, «никто и верить не желал, будто для Алкивиада существует что-либо недосягаемое» ( Plut. Alc., XXXVI; пер. С. И. Соболевского). Тем самым, Алкивиад стал заложником своей харизмы. Можно согласиться с Плутархом в том, что его погубила собственная слава ( Plut. Alc., XXXV ), и с Непотом в том, что «слишком высокое мнение о его таланте и доблести обернулось ему во зло» ( Nep., Alcib. 7; пер. Н. Н. Трухиной). Но с другой стороны, переводя древние представления на язык наших понятий, можно сказать, что Алкивиада погубила именно его великая харизма…
Таким образом, непатриотическое поведение Алкивиада объясняется не только своеобразием его личности, но и древними религиозными представлениями, связанными с идеалом героизма. Следовательно, Алкивиада следует оценивать исходя не из наших концепций историзма и не по отношению к последующей постклассической эпохе и к эллинизму, как это обычно делается[37], а по отношению к тому культурному типу, которому он принадлежал. Иными словами, я полагаю, что личность Алкивиада следует относить к другому историческому времени, т.е., не к будущему и не к его современности, а к прошлому. В этом смысле я полностью солидарен с мнением И. Е. Сурикова, который представляет Aлкивиада в качестве последнего лидера допериклового и даже доклисфеновского времени, в виде своеобразного живого анахронизма, выходца из минувшей эпохи[38]. Пожалуй, это самая верная характеристика для Aлкивиада, который действительно был последним и ярчайшим представителем уходящей в прошлое аристократической культуры. Что же касается его экстравагантных выходок, то они объясняются, скорее всего, именно тем, что он блистал и желал блистать в эпоху, противоположную той, которой сам принадлежал по духу. Он вел себя вызывающе именно потому, что, следуя образцам прежних аристократических времен, ему приходилось противостоять враждебной его идеалу демократической действительности. Главным же мотивом во всех его начинаниях было стремление реализовать свою харизму, стремление, принимавшее иногда эпатирующий характер. Не случайно отличительными чертами Алкивиада Плутарх называет жажду первенства и победы ( Plut., Alcib. II )[39]. Он действительно всегда и всюду искал личного первенства – точно так же, как гомеровские герои и многие аристократы архаической эпохи. Подобно тем легендарным героям он служил лишь своей личной харизме, а в этом контексте нет места для разговоров о предательстве. Харизматическая личность ищет прежде всего реализации своего героического потенциала, а героизм, как известно, не вписывается в рамки гражданственности[40]… Пожалуй, основная проблема Aлкивиада в том и состояла, что он действовал по- старому в новых условиях. Когда в стране правила демократия и официальной нормой стал патриотизм, он продолжал руководствоваться аристократическим кодексом чести. Он упорно не хотел принимать свое время, живя категориями прошлого.
Все сказанное означает, что параллели, примеры и образцы для поведения Алкивиада следует искать в прошлом аристократической культуры, и конечно, прежде всего, в мире эпоса. Там многие герои ведут себя подобно Главку с Диомедом. Самый великий герой эпоса – «богоравный» Ахилл – поссорившись с Агамемноном, из-за своей личной обиды бросил на произвол судьбы всех ахейцев. И только опять-таки личный мотив – месть за убитого Патрокла – заставил его отречься от гнева и вернуться на поле брани. Как уже не раз отмечалось, Ахилл самоутверждается в собственной славе, а судьба ахейцев или родных мирмидонян его мало волнует или не волнует вовсе[41]. Нечто подобное можно сказать и о Гекторе, с именем которого иногда связывают принцип ответственности перед полисом и начатки политического мышления[42]. Правда, мне представляется, что исследователи зачастую переоценивают брошенный им как-то в боевом пылу клич «за отечество храбро сражаться!» ( Il., XII, 243 ). Конечно, сам по себе этот призыв и в самом деле выражает патриотические настроения, а также чувство ответственности перед родиной, но не следует абсолютизировать одну фразу, тем более, применительно к самому Гектору. Ведь он, приняв роковое решение о поединке с Ахиллом, не просто осознанно пошел на верную смерть, но и не оставил шансов на спасение своему городу и своей семье. Непосредственно перед боем отец совершенно ясно сказал ему об этом ( Il., XXII, 37 – 76 ), но Гектор проигнорировал эти аргументы. Он предпочел погибнуть, лишив, тем самым, последней надежды своих близких и весь «град Приама», но зато выполнив свой моральный долг. Это означает, что и для него долг чести был превыше всего остального[43]. Хотя, справедливости ради следует отметить, что решение далось Гектору нелегко, и, как отмечают исследователи, в его душе происходил внутренний конфликт между эгоцентрическими установками индивидуального героизма и ответственностью перед семьей и общиной[44]. Вопрос об ответственности гомеровских героев уже широко обсуждался, и сейчас не время углубляться в эту дискуссию[45], но, здесь будет уместно отметить, что, хотя в эпосе действительно можно найти примеры ответственного поведения героев, гораздо чаще они ведут себя весьма своевольно, не сообразовывая или мало сообразовывая свои действия с интересами коллектива[46].
Немало примеров подобного непатриотического поведения можно найти также в истории архаической эпохи[47], и всякий раз это связано с аристократическими представлениями о власти и чести. Пожалуй, наиболее близкий к Алкивиаду пример являет собой Гиппий, явившийся в 490. г. с персидским войском в Аттику с такой же целью – чтобы «вернуть отечество» ( Hdt., VI, 102, 107 ). Понятно, что он желал «вернуть» отечество себе самому, т.е. снова править в нем, а не просто вернутся на родину. Очевидно, он руководствовался такой же логикой, что и Алкивиад. Бросается в глаза, что Геродот рассказывет о Гиппии в персидском войске без всякого даже намека на осуждение и сам этот факт не вызывает у него никакого протеста. Кроме того, в Афинах имели место еще два подобных прецедента, только помельче масштабом. Лет за сто до Гиппия, где-то между 640 и 630 гг. до н.э., Килон попытался захватить власть и занял Акрополь с военным отрядом, присланным ему от тестя, мегарского тирана Феагена. ( Hdt. V, 71; Thuc. I, 126; Plut. Sol. 12 ). Затем история повторилась в 508 г. до н.э., когда, после падения афинской тирании, в пылу борьбы с Клисфеном, Исагор пригласил на помощь себе спартанского царя Клеомена с военным отрядом ( Arist., Ath. Pol. 20, 1 – 3 ). И конечно же, завершить это список лучше всего именем Фемистокла, хоть он и выходит за рамки архаики. Этот герой войны, «автор» великой победы при Саламине, подобно Алкивиаду был вынужден бежать из Афин и искать прибежище у врагов своего полиса – у тех самых персов, против которых он еще недавно сражался ( Thuc,, I, 137 – 138; Plut. Them., XXXI ). Как и Алкивиада, его побуждала к тому непомерная жажда славы, благодаря которой он так же легко менял «сторону фронта», будучи готовым сражаться как за родину, так и против нее[48].
Естественно, Афины были не единственным местом, где претенденты на власть прибегали к вооруженной помощи других, даже враждебных государств. Когда в 480. г. до н.э. Ксеркс совершал свой поход на Элладу, в его войске находился низложенный, беглый спартанский царь Демарат, также мечтавший с помощью персидской силы вернуть себе власть на родине ( Hdt., VI, 65 – 70; VII, 234, 239 ). Это прямая параллель к Гиппию и Алкивиаду. Кроме того, по всей Греции в архаическую эпоху харизматичные и амбициозные лидеры с поразительной легкостью меняли «сторону фронта» в зависимости от того, что им на данный момент представлялось наиболее выгодным и целесообразным. Так, например, Аристагор сначала воевал с персами против греков на Наксосе, а когда потерпел фиаско, то, стремясь избежать наказания, поднял знамя греческого восстания против персидского владычества ( Hdt., V, 30 – 36 ). Затем, когда поражение восстания стало очевидным, он, «ничтоже сумняшеся», покинул свой обреченный город и основал колонию во Фракии ( Hdt., V, 124 – 126 ). Как показывают исследования, есть основания полагать, что и в этой истории основной движущей силой была опять-таки борьба за власть в Милете[49]. Однако по большому счету, здесь даже не имеет значения, было ли все так на самом деле, или это лишь искаженная субъективизмом версия Геродота. Важно то, что для самого Геродота, а значит, и для его слушателей, такой ход событий представлялся нормальным и естественным, т.е. возможным. Об этом красноречиво свидетельствует еще один факт из истории той эпохи – пример Терилла, тирана Гимеры, изгнанного из своего города акрагантским тираном Фероном. В знаменитой битве при Гимере в 480 г. до н.э., решавшей судьбу Сицилии, этот Терилл воевал на стороне карфагенян, и при этом ему помогал его зять – тиран Регия Анаксилай, являвшийся, по словам Геродота, главным зачинщиком похода пунийцев на Сицилию ( Hdt., VII, 165 )[50]. Примечательно, что и на этот раз свою большую, если не решающую роль сыграли аристократические взаимоотношения гостеприимства – Геродот утверждает, что Терилл был связан такими отношениями с Гамилькаром, военачальником карфагенян в том походе ( Ibid. ). Кстати, нечто подобное происходило на Сицилии и много позже, в 344. г. до н.э., когда снова кипела борьба за власть на острове и леонтийский тиран Гикет для борьбы с Тимолеонтом призвал на помощь все тех же карфагенян ( Plut. Timoleon., XI, XVII ). Как видно, старинные стандарты мышления долго сохраняли свою живучесть и актуальность.
С точки зрения современных представлений о патриотизме эти примеры выглядят дико и непонятно, но Геродота и других античных авторов ничто не смущает и они рассказывают об этих событиях спокойно, без тени негодования или осуждения. Кажется, они воспринимают такие вещи как что-то само собой разумеющееся. Складывается впечатление, что захват власти с помощью иноземной вооруженной силы в архаическую эпоху не только не был необычным, но, скорее всего, являлся даже чем-то заурядным, можно сказать архетипным. Похоже, что способ добывания власти, для того, кто имел на нее хоть какое-то моральное право ( в силу происхождения или исключительной харизмы ), считался его личным делом. Таким образом он «приобретал» родину для себя, в свое личное пользование, а участие в деле иностранных войск никого не смущало. Оправданием всякий раз служила идея харизмы, ведь в случае успеха всем становилась очевидна благосклонность божества к победителю.
Как видно, в данном контексте поведение Алкивиада по отношению к Афинам выглядит вполне типичным. Собственно говоря, он делал то же самое, что и его предшественники, и в этом смысле не отличался от них. Его действия могли вызвать осуждение только со стороны новой полисной идеологии, пылким выразителем которой был Перикл. Судя по всему, в прежние, «старые добрые» времена, подобные «предательства» вовсе не воспринимались как предательства, а казались делом естественным, можно сказать, повседневным.
Следовательно, как нельзя применять к древним грекам современное понятие патриотизма, так же точно нельзя применять к ним и наши представления о предательстве… Просто таковы были тогда «правила игры» в большом аристократическом агоне, ставкой в котором служила власть. Рядовые граждане готовы были принять победителя, признав силу его харизмы, а его обязательства перед теми, кто ему помогал, никого не волновали. И в самом деле, чтобы изменилось в жизни афинян, если бы Гиппию удалось вернуть себе власть с помощью персов? Скорее всего, ничего существенного, и они жили бы «себе припеваючи», как и прежде при тирании. И лишь только враждебным правителю аристократам пришлось бы, как и тогда, удалиться в изгнание. При этом никого бы не смущал тот факт, что Гиппий[51] или другой тиран вместо него, должен был бы посылать «дары» Великому Царю и время от времени появляться у него при дворе, подобно правителям ионийских городов. То же самое можно сказать про Демарата, Терилла и прочих. Видимо, дело в том, что, согласно тогдашним представлениям и обычаям, вопрос о власти не затрагивал большинства населения и ничего не кардинально не менял – ни образ жизни людей, ни государственный строй, ни религию, ни традиции и т.д. В отличие от нового и новейшего времени, тогда это был именно вопрос о власти в чистом виде, касающийся лишь заинтересованных лиц и сторон. То был вопрос о политической «крыше» ( извиняюсь за жаргонизм, но уж больно он здесь к месту… ), т.е. вопрос о том, кому платить за порядок и безопасность. Смена правящей элиты никак не отражалась на жизни подавляющего большинства населения[52] и потому всем было все равно, кто кому помогает в борьбе за власть, а решающее значение имел тот факт, что победителю благоволят боги.
Ситуация изменилась в ходе борьбы с персами, когда выяснилось, что это уже не состязание за власть, а война культур, причем для многих греков – война на выживание. Поруганные святилища и разоренные города были красноречивыми доказательствами тому и взывали к отмщению. Вот тогда и оформился окончательно общеэллинский патриотизм и сложилось определенное представление о предательстве. Случай с Ликидом служит хорошей иллюстрацией к сказанному. Этот Ликид, будучи членом совета, предложил вынести на рассмотрение народного собрания предложение Мардония о капитуляции, когда персы вторично вторглись в Aттику. Реакция была бурной и незамедлительной – афиняне побили камнями Ликида и всю его семью ( Hdt., IX, 5 ). Таким образом, их всех убили даже не за факт предательства, а только за саму мысль о возможности переговоров с персами. Геродот гадает, был ли этот Ликид подкуплен персами, или он сам так думал ( Ibid. ), но сути дела это не меняет – столь скорая и жестокая расправа поражает воображение. Это говорит о том, насколько накалены были эмоции афинян и насколько обострились их патриотические чувства. В – принципе их можно понять, т.к. город был уже разорен персами и всем было ясно, за что ведется война. Тем более, что Ликид явно не мог похвастать никакой особой харизмой… После такого опыта, афиняне уже по- новому смотрели на взаимоотношения индивида и полиса и имели уже довольно четкое понятие о предательстве. Тем не менее, все это никак не повлияло на Aлкивиада и он действовал согласно канонам героической аристократической этики, сформированным задолго до славных «марафономахов». Совершенно очевидно, что ни он сам, ни другие афиняне, не усматривали никакого сходства между ним и Ликидом. Во многом видимо потому, что многие афиняне тогда все еще мыслили категориями харизмы и харизматической власти. Древние религиозные и политические представления были чрезвычайно живучи и в критическое время оказались сильнее еще довольно свежих полисных идеологических установок. Идеал гражданина явно померк перед идеалом героя. Другими словами, харизма как явление сакрального порядка, оказалась выше полиса как человеческого учреждения. Что естественно для обычных, религиозных людей того времени…
Совсем другое отношение к родному полису демонстрируют приводимые С. Г. Карпюком цитаты, содержащие мысли, истоки которых он справедливо усматривает в учении софистов [53]. Прежде всего это фрагмент из речи Лисия против Филона, первое обвинение которому состоит именно в отсутствии гражданского патриотизма. Обвинитель формулирует это следующим образом: «Я утверждаю, что быть членом Совета у нас имеет право только тот, кто, будучи гражданином, сверх того еще и желает быть им: для такого человека далеко не безразлично, благоденствует ли наше отечество или нет, потому что он считает для себя необходимым нести свою долю в его несчастиях, как он имеет ее и в счастии. А кто хоть и родился гражданином, но держится убеждения, что всякая страна ему отечество, где он имеет средства к жизни, тот, несомненно, с легким сердцем пожертвует благом отечества и будет преследовать свою личную выгоду, потому что считает своим отечеством не государство, а богатство» ( Lys., XXXI, 5 – 6; пер. С. И. Соболевского ). В этом отрывке одновременно сформулированы позиции истинного патриота, и человека безразличного к своему полису, как их понимает сам Лисий и его слушатели. Очевидно, этот текст отражает нормативную точку зрения того времени, т.к. оратор апеллирует к общепринятым понятиям и представлениям, которые должны быть соответствующим образом восприняты его аудиторией. При этом представление о патриотизме здесь по сути идентично тому, что представлено в речи Перикла. Патриот – это тот, кто небезразличен к своему отечеству, кто его любит и готов подчинить его интересам свои собственные, разделяя со своим городом как счастье, так и несчастье. Негодный же гражданин, лишенный патриотизма – это тот, кто готов жертвовать общим благом ради собственной выгоды, тот, кто полагает своим отечеством не город, а богатство ( dia; to; mh; th;n povlin, ajlla; th;n oujsivan patrivda aujtoi'” hJgei’sqai – Lys., XXXI, 6 ).
Ближайший по смыслу текст дает знаменитая фраза Гермеса из «Плутоса» Аристофана: «где хорошо живется, там и родина» ( Patri;” gavr ejsti pa’s’ i{n’ a[n pravtth/ ti” euj’ – Aristph., Plut. 1151 ). Ту же мысль выражает один фрагмент из Еврипида: «везде, где земля кормит, – отечество» ( wJ” pantacou’ ge patriv” hJ bavsousa gh’ – Fragm. 777 )[54]. В обоих случаях, как и в речи Лисия, понятие родины замещается личным благополучием, т.е. богатством. Мне представляется, что это уже совершенно новый тип отношения индивида к полису, явившийся результатом кризиса полисных ценностей. Он только на первый взгляд напоминает позицию Алкивиада и других аристократов традиционного образца, а по существу весьма отличается от нее. Общим является лишь то, что в обоих случаях интересы индивида ставятся выше интересов полиса. Зато характер, сама направленность интересов эгоцентричной личности существенно отличаются. Алкивиад и ему подобные не продают родину за деньги, они хотят и готовы ей служить, но при условии своего первенствования. Да, они стремятся завоевать родину для себя и утвердиться в ней в качестве лидеров, но обоснованием для их претензий служит религиозная идея харизмы, очевидная для всех обычных людей того времени. В противоположность им, те, кто высшей ценностью полагают богатство, по существу никак не связаны с родиной и в любой момент готовы покинуть ее и переселиться на новое место – туда, где у них будут подходящие условия для материального процветания. Родина им действительно безразлична, для них это лишь сфера применения их бизнеса. Это и в самом деле, чисто софистический взгляд на вещи[55], хотя, впрочем, он характерен для любой эпохи «нового времени»…
О том, как ведут себя люди, променявшие родину на богатство, мы можем узнать из речи того же Лисия, обращенной против торговцев хлебом. Как известно, хлеб был стратегическим продуктом для Афин и от его поставок зависело не только благополучие города, но и само его существование. Хорошо понимая это, торговцы хлебом вели себя подобно современным нефтяным компаниям и при каждом удобном случае беззастенчиво взвинчивали цены, нимало не считаясь с общественными нуждами. Неудивительно, что Лисий обращается к ним с резкой отповедью в суде: «Их интересы противоположны интересам других: они всего больше наживаются тогда, когда, при известии о каком-нибудь государственном бедствии, продают хлеб по дорогим ценам. Ваши несчастья так приятно им видеть, что иногда они узнают о них раньше всех, а иногда и сами их сочиняют: то корабли ваши в Понте погибли, то они захвачены спартанцами при выходе из Геллеспонта, то гавани находятся в блокаде, то перемирие будет нарушено. Вражда их дошла до того, что они в удобный момент нападают на вас как неприятели. Когда вы более всего нуждаетесь в хлебе, они вырывают его у вас изо рта и не хотят продавать, чтобы мы не разговаривали о цене, а были бы рады купить у них хлеба по какой ни на есть цене» ( Lys., XXII, 14 – 15; пер. С. И. Соболевского ). Оратор описывает здесь поведение торговцев как военные действия против своего города и по сути, так оно и есть.
Красок в эту картину добавляет тот факт, что по крайней мере один из торговцев, к которому Лисий обращается в своей речи, был не прирожденным афинянином, а метеком ( Ibid.,5 ). Вполне возможно, что именно поэтому оратор и выделил его из числа других торговцев. Он задает ему вопрос о том, должен ли тот, живя в Aфинах, повиноваться законам афинского государства, и, получив утвердительный ответ, делает вывод о заслуженности для преступника смертной казни ( Ibid.). Из этого видно, что для метеков обязательным считалось минимальное требование патриотизма, т.е. лояльность к приютившему их государству[56]. Отсюда следует, что вина афинских граждан, ведущих негласную борьбу со своим государством ради собственной прибыли, должна была быть не меньше, а скорее всего, даже больше, чем вина метека, для которого это государство не родное[57]. Возможно, это и хотел показать Лисий, выделив из числа обвиняемых именно его одного. A что касается самого метека, то его моральный облик получался в высшей степени неприглядным, т.к. выходило, что ради денег он презрел сразу две страны – свою природную родину, которую он покинул ради наживы, и ту, в которой нашел пристанище и поле деятельности. Во всяком случае, этот пример наглядно иллюстрирует положение дел в новую эпоху, когда для многих людей богатство сделалось главной жизненной ценностью. Но если целью жизни становится прибыль, то рано или поздно интересы частного бизнеса приходят в противоречие с интересами родины, исконной или приемной, и конфликт этот разрешается, естественно, не в пользу родины. Так проявляет себя типичный «патриотизм денег», хотя, конечно, ни о каком патриотизме в собственном смысле слова здесь речи быть не может.
Итак, если отвечать формально на поставленный в заголовке вопрос, то можно утверждать, что в древней Греции было три патриотизма – аристократический, уходящий корнями в гомеровскую эпоху, классический полисный, сформулированный окончательно Периклом, и поздний, софистический. Если же отвечать по существу вопроса, исходя из одновариантности патриотизма, то следует признать, что с наибольшим основанием патриотизмом в строгом смысле слова можно назвать только второй его тип, олицетворением которого является фигура Перикла. Софистический же «патриотизм» вообще таковым не является и маркирует собой период распада полисных ценностей, в том числе и в отношениях индивида с государством. Это, скорее всего, следует обозначить как стадию «постпатриотизма». В свою очередь, аристократический тип взаимоотношений индивида с полисом можно охарактеризовать как «предпатриотический», поскольку он древнее полиса, и, в соответствии с давней традицией, предусматривает весьма высокую степень автономии индивида от государства и приоритет личных интересов перед общественными. Правда, нельзя сказать, чтобы харизматичным аристократическим лидерам была чужда любовь к родине. Как Гиппий, так и Алкивиад, любили свой родной полис, хотя и «странною любовью». Специфичность их любви состоит в том, что в своей жажде первенства они стремились подчинить не себя интересам полиса, а полис своим интересам. Примечательно, что этот аристократический взгляд на роли государства и личности не исчез с развитием полиса и продолжал существовать параллельно официальному патриотизму, поднятому на щит полисной идеологией. Древнюю эпическую идею харизматического лидерства никто не отменял и она благополучно пережила эпоху полисного расцвета, хотя и не без эксцессов, как это видно на примере Aлкивиада, чтобы затем обрести новую жизнь в эпоху своего эллинистического ренессанса. Если принять этот аристократический взгляд на полис за полноценный патриотизм, то придется признать, что в Греции было все-таки два патриотизма, а если настоящим патриотизмом считать только ту позицию, которую сформулировал Перикл, то отсюда будет следовать вывод, что древние эллины знали только один вид патриотизма – классический полисный, а также два вида непатриотичного поведения индивида по отношению к государству – «предполисный» и «постполисный», т.е. те, что возникли «до» и «после» полиса…
[1] Основные положения данной статьи впервые были представлены публике в докладе на конференции «Жебелевские чтения –XIII» в Санкт – Петербурге, 28 октября 2011 г. Я сердечно благодарю всех своих друзей и коллег, принявших живое участие в обсуждении моего выступления, чьи ценные замечания и дополнения я постарался учесть в процессе подготовки настоящей статьи. Особая благодарность Aнтону Короленкову за подсказанный сюжет о Ликиде.
[2] Карпюк С.Г. Два патриотизма в «истории» Фукидида // Вестник РГГУ, 10 ( 53 ), 2010. С. 101 – 116.
[3] Там же. С. 112слл.
[4] Именно так, с различными вариациями, определяют патриотизм современные словари – см.: Карпюк С.Г. Указ. Соч. С. 101, сн. 1. Вообще, патриотизм с трудом поддается определению и уж тем более, измерению. Нам приходится иметь дело с весьма аморфным и изменчивым понятием даже применительно к современности, не говоря уже о давно исчезнувших культурах. Поэтому обсуждая эту тему приходится делать оговорки относительно адекватности нашего понимания…
[5] Там же. С. 102.
[6] Национальное самосознание является продуктом нового времени – см.: Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. Пер. В. Николаева. Москва, 2001. С. 35слл.
[7] См.: Карпюк С.Г. Указ. Соч. С. 101; Pursey N.M. Alcibiades and to; filovpoli // HSCPh. 1940. 51. P. 217ff; Chroust A.H. Treason and Patriotism in Ancient Greece // Journal of the History of Ideas. 1954. 15, N2. P. 288f.
[8] Интересно, что в русской версии Википедии, в статье «патриотизм» это предполагается имманентным качеством любого патриотизма вообще – см.: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
[9] Карпюк С.Г. Указ. Соч. С. 113. Впрочем, эта точка зрения высказывалась уже давно и неоднократно, успев стать своего рода историографическим шаблоном – см. например: Burn A.R. The History of Greece. Harmondsworth, 1966. P. 282; Wil E.l ( Ed. ). Le monde grec et l’ orient. Paris. 1972. Vol. 1. P. 342.
[10] Herman G. Ritualised Friendship and the Greek City. Cambrige, 1987. P. 1f.
[11] Herman G. Op. Cit. P. 2ff.
[12] Ibid.
[13] См. об этом: Туманс Х. Перикл на все времена // Вестник РГГУ , 10. 2010. С. 134 -140; Он же: Сократ и софисты: проблематизация интеллектуального творчества // Мнемон. 10. Спб., 2011. С. 346слл, 352слл.
[14] См.: Stahl M. Aristokraten und Tyrannen im archaischen Athen. Stuttgart, 1987. S. 206.
[15] Подробнее см.: См.: Jaeger W. Solons Eunomiа // Antike Lyrik. Hrsg. W. Eisenhut. Darmstadt, 1970. S. 7–31; Manuwald B. Zu Solons Gedankenwelt // Rheinisches Museum für Philologie. Bd. 132. Heft 1.1989. S.12ff; Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии: от Гомера до Перикла. Спб., 2002. С. 210слл.
[16] Здесь уместно вспомнить, что за Солоном числились законы, призванные стимулировать развитие у афинян гражданского самосознания и чувства полисного патриотизма, т.е. прививающие им осознание сопричастности к общему делу, солидарности и принадлежности к гражданскому коллективу. А именно, это закон, предписывающий гражданам участие в общих трапезах ( Plut., Sol., 24 ), закон, лишающий гражданских прав не примкнувшего ни к одной стороне во время гражданской смуты ( Arist. Ath. Pol., 8, 5; Plut, Sol.20 ), а также законы против роскоши ( Plut., Sol. 20, 21; Cic., De leg., II, 63 ).
[17] См.: Starr Ch. Individual and Community. The Rise of the Polis 800 – 500 B.C. New York, 1986. P. 52f.
[18] Основания общеэллинского патриотизма, как известно, хорошо сформулированы у Геродота в ответе афинян спартанским послам, которые были обеспокоены возможностью примирения Aфин с персами. Отвергнув саму мысль о примирении с Ксерксом, афиняне у Геродота сказали следующее: «Много причин, и притом весьма важных, не позволяет нам так поступить, если бы мы даже пожелали этого. Во‑ первых, самое важное препятствие к примирению – это сожженные и разрушенные кумиры и святилища богов. За это нам нужно кровью отомстить, прежде чем примириться с человеком, содеявшим это. Затем – наше кровное и языковое родство с другими эллинами, общие святилища богов, жертвоприношения на празднествах и одинаковый образ жизни. Предать все это – позор для афинян. Поэтому знайте, если до сих пор вы не узнали этого: пока жив еще хоть один афинянин, не будет у нас мира с Ксерксом!» ( Hdt., VIII, 144; пер. Г. A. Стратановского). Как видно, здесь представление об эллинском единстве покоится на пяти основаниях: родстве, языковом единстве, культовом единстве и образе жизни. И при этом, опять-таки, никаких сантиментов и любви к «родным оливкам»…
[19] Об очаге как сакральном символе государства см.: Туманс Х. К идее государства в архаической Греции // ВДИ, 2006, Nr. 3. С. 77 – 105.
[20] Здесь можно упомянуть другой пример героического самопожертвования со стороны спартанцев. Геродот пишет, что перед войной спартанцы бросили в колодец персидских послов, явившихся к ним с требованием «земли и воды». Однако после неблагоприятных предзнаменований, выпадавших во время жертвоприношений, двое знатных спартанцев вызвались добровольцами, чтобы явиться ко двору Ксеркса и отдать свои жизни во искупление вины за всю Спарту ( Hdt., VII, 133 – 136 ). Конечно, к обычному полисному патриотизму этот пример имеет мало отношения, т.к. во-первых, здесь налицо типичная искупительная жертва, а это религиозная идея, не патриотическая; а во-вторых, Спарта в истории Греции представляет собой особый случай, который не может рассматриваться в качестве типичного образца. Тем не менее, следует отметить, что обычай искупительной жертвы за общину уже содержит в себе основание патриотического мышления, ведь таким образом частное приносится в жертву общему, жизнь отдельного человека – благу всего коллектива. Кстати, в афинской мифологии тоже есть примеры подобной искупительной жертвы за общину- это легендарный царь Кодр ( Iust., II, 6, 20; Valer. Max., V, 6, ext. 1) и Макария, дочь Геракла ( Paus., I, 32, 6 ).
[21] Дело в том, что на поверку, именно с точки зрения мотивировки этого поступка все оказывается не так просто. Геродот объясняет выбор Леонида следующим образом: « А сам он считал постыдным отступать. Если, думал Леонид, он там останется, его ожидает бессмертная слава и счастье Спарты не будет омрачено…‹…›… А так как он желал стяжать славу только одним спартанцам, то, по-моему, вероятнее, что царь сам отпустил союзников…» ( Hdt., VII, 220; пер. Г. А. Стратановского). Как отмечает П. А. Сапронов, Геродот видит у Леонида преимущественно «общегероические» мотивы: стыд, «бессмертную славу» и стремление стяжать славу для одних только спартанцев, в результате чего «счастье Спарты» отодвигается куда-то в тень ( Сапронов П. А. Культурология. Спб., 1998. С. 260 ). Можно поспорить с тем, действительно ли в этом тексте интересы Спарты отодвинуты в тень ( думается, что слава для одних только спартанцев в какой-то мере совпадает с этим « счастьем Спарты» ), но нельзя не согласиться с тем, что на первом месте здесь действительно стоят не патриотические мотивы, а категории героической этики – стыд и собственная слава. Спарта и ее слава – только на втором месте. Надо полагать, Геродот адекватно представил самую естественную и понятную для людей того времени мотивацию поступка Леонида. Кстати, у Диодора Леонид также принимает решение остаться в Фермопилах, горя желанием добыть славу себе и спартанцам ( Diod.,XI, 9, 1 ). Все сказанное означает, что образцом патриотизма подвиг трехсот спартанцев стал позднее ( во всяком случае, у Диодора это уже хорошо видно, т.к. сам от себя он характеризует подвиг трехсот спартанцев как смерть во имя Эллады – Ibid. ), а изначально это был пример прежде всего героической доблести, к которой лишь примешивалась патриотическая составляющая. Кроме того, религиозный контекст ( дельфийский оракул о том, что Спарта будет спасена, если погибнет ее царь: Hdt., VII, 220 ) позволяет думать, что отряд Леонида изначально имел смысл религиозной искупительной жертвы за спартанскую общину…
[22] Правда, в самих Aфинах Пелопоннесская война вызвала скорее раскол, чем единение, что отразилось в комедиях Aристофана и в конце концов вылилось в переворотах на последнем этапе войны. Аристофан, как известно, хорошо показал разницу в том, как относились к войне крестьяне, больше всего страдавшие от вторжений спартанцев, и городское население, получавшее от войны известные выгоды. Общество раскололось, что сильно повлияло на развитие политической нестабильности. В результате, в комедии «Aхарняне» Aристофан представил, пусть сатирическую, но, тем не менее, весьма значимую реакцию на политику Перикла, приносящего в жертву полису разоряемые спартанцами частные хозяйства аттических крестьян. Так родилась забавная идея построения мирного пространства «в отдельно взятом» хозяйстве, что означает хоть и утопическую, но попытку реванша частного над общественным. См.: Кудрявцева Т.В. Война и мир в комедиях Aристофана // Мнемон. 10, Спб., 2011. С. 49.
[23] См.: Фролов Э. Д. Проблема мира в политике и публицистике античной Греции // Мнемон. 10, Спб., 2011. С. 95 – 101.
[24] Тaeger F. Alkibiades. München, 1943. S. 127.
[25] См.: Pursey N.M. Op. Cit. P. 215 – 231; Chroust A.H. Op. Cit. P. 280 – 288. Возражения см.: Карпюк С.Г. Указ. Соч. С. 109; Фролов Э. Д. Греция в эпоху поздней классики. Общество, личность, власть. Спб., 2001. С. 81, сн. 8.
[26] Pursey N.M. Op. Cit. P. 217f, 220ff, 224ff, 230; Chroust A.H. Op. Cit. P. 281ff, 288.
[27] Карпюк С.Г. Указ. Соч. С. 109.
[28] Кстати, здесь уместно вспомнить, что древние греки, как хорошо известно, были ярко выраженными индивидуалистами, а не «командными игроками». Видимо поэтому, создав множество видов индивидуальных спортивных соревнований, они так и не изобрели командных состязаний.
[29] Herman G. Op. Cit. P. 117ff.
[30] О связях Алкивиада в греческом мире см.: Суриков И. Е. Ксенические связи в дипломатии Алкивиада // Античный мир и археология. Вып. 11. Саратов, 2002. С. 4 – 13.
[31] Вопрос о том, почему Алкивиад этого не сделал, остается открытым. Мы можем только гадать, произошло ли это потому, что ему не хватило смелости ( Beloch J. Griechische Geschichte. Bd. II, 1. Strassburg, 1914. S. 361), или ему помешало полисное мышление, не позволившее переступить через демократические нормы (Суриков И.Е. Алкивиад: афинский денди или первый «сверхчеловек»? // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. 5. Специальный выпуск: Историческая биография и персональная история. М., 2001. С. 218 ), потому ли, что он внутренне изменился и отказался от своего эгoизма (Vischer W. Alkibiades und Lysandros // Vischer W. Kleine Schriften. Bd. I. Leipzig, 1877. S. 117f ), или же потому, что он просто понял, что не сможет удержаться у власти ( Фролов Э. Д. Указ. Соч. С. 98 ). Мне же представляется, что Aлкивиад не стал тираном по той причине, что ясно представлял себе, что не сможет удержаться у власти традиционными аристократическими средствами, что одной веры в его харизму будет недостаточно, и, что для укрепления власти ему придется заниматься сомнительными политтехнологиями по примеру Перикла ( см. об этом: Туманс Х. Перикл на все времена… С. 117 – 156. ). Скорее всего, он просто не желал опускаться до политтехнологий, отдавая предпочтение классическому репертуару аристократии. Видимо поэтому он и не стал настоящим политиком, а славы и влияния добивался по старинке – военными подвигами и богатством.
[32] Forde S. The Ambition to Rule; Alcibiades and the Politics of Imperialism in Thucydides. Ithaca, 1989. P. 8, 55, 208; Фролов Э. Д. Указ. Соч. С. 101.
[33] Плутарх собщает еще один факт, имеющий отношение как к харизме Алкивиада, так и к его межполисным связям: когда накануне отплытия афинского флота в Сицилию разгорелся скандал по поводу разрушения герм и пародирования мистерий, гоплиты из Аргоса и Мантинеи заявили, что они присоединились к походу только ради Алкивиада и откажутся от своего участия в экспедиции, если Алкивиаду будет причинена несправедливость ( Plut., Alcib. XX; см. также: Thuc., VI, 29, 2 ).
[34] См. : Taeger F. Charisma. Studien zur Geschichte des antiken Herrschekultes. Bd. 1. Stuttgart, 1957. S. 51 – 63;Calhoun G. M. Classes and Masses in Homer // CPh. 1934. 29. P. 192; Strassburger H. Die Enzelne un die Gemeinschaft im Denken der Griechen // HZ. 1954. 177. S. 238; Spahn M. Mittelschicht und Polisbildung. Frankfurt/ Main. 1977. S. 42f; Stein – Hölkeskamp. Adelskultur und Polisgsellschaft. Stutgart, 1989. S. 24; Ulf Ch. Die homerische Gesellschaft. Materiallien zur analytischen Beschreibung und historischen Lokalisierung. München, 1990. S. 106, 219; Barcelo P. Basileia, Monarchia, Tyrannis. Stuttgart, 1993. S. 56f.
[35] Подробный обзор всех качеств Алкивиада на основании данных источников см.: Gribble D. Alcibiades and Athens. A Study in Literary Presentation. Oxford, 1999. P. 13 -15, 29ff.
[36] Плутарх так и говорит; «…удача ни в чем не оставляла Алкивиада» ( Plut. Alcib., XXIV).
[37] Думается, что не совсем верно укоренившееся представление об Aлкивиаде и других подобных лидерах поздней классики как о предтечах эллинизма, подрывающих полисные устои: Vischer W. Alkibiades und Lysandros // W. Vischer. Kleine Schriften. Bd. I. Leipzig, 1877. S. 87 – 152; Beloch K. J. Griechische Geschichte. Bd. V, Abt. 1. Berlin, 1922. S. 1f; Taeger F. Alkibiades… S. 235—236; Фролов Э. Д. Греция в эпоху поздней класики. Общество, личность, власть. Спб.¸ 2001. С.79, 102, 136, 290 ит.д.; Строгецкий В. М.Афины и Спарта. Борьба за гегемонию в Греции в V в. до н.э. ( 478 – 431 гг. ). Москва, 2008. С. 40; Суриков И.Е. Алкивиад… С. 224. Полагаю, что параллель с прошлым здесь гораздо уместней и что эти выдающиеся личности представляли собой не зачатки новой эпохи, подрывающие устои некоего образцово идеального полисного порядка, а являлись обломками старого мира в условиях греческого «нового времени». Ведь эллинизм можно воспринимать не только как строительство нового мира, но и как реставрацию – пусть только символическую, конечно – старого мира, т.е., героической эпохи с ее аристократическими ценностями. И тогда, в эпоху такой своеобразной «реставрации», все подобные Aлкивиаду «обломки прошлого» пришлись ко двору. A кроме того, мир аристократической культуры в древней Греции был значительно старше, стабильней, и более укоренен в традиции, чем тот идеальный полисный мир, который мы рисуем с эпохи Перикла и который оказался весьма шатким и недолговечным, так что, едва возникнув и еще как следует не укрепившись, он уже был подвержен разрушительному воздействию «деструктивных личностей» вроде Фемистокла, Aлкивиада, Лисандра и прочих, подрывавших его «устои»…
[38] Суриков И.Е. Алкивиад… С. 224.
[39] Это же всегда отмечают и современные исследователи: Forde S. Op. Cit. P. 176ff.; Ellis W. Alcibiades. London, 1989. P. 15; Taeger F. Alkibiades… S. 127. etc…
[40] См. у П. А. Сапронова: «Героизм далеко выходит за пределы гражданственности. Он может даже ему явно противоречить»: Сапронов П. А. Указ. Соч. С. 260.
[41] Например: Redfield J.M. Nature and Culture in the Iliad: The Tragedy of Hector. Cicago, 1975. P. 10f,108f, 124f; Zanker G. The Heart of Achilleus. Characterization and Personal Ethics in the Iliad. The University of Michigan Press, 1997. P. 73; Schein S. L. The Mortal Hero. An Introduction to Homer’s Iliad. Berkeley, 1984. P. 180f: Сапронов П.А. Указ. Соч. С. 259.
[42]Walter U. An der Polis teilhaben. Stuttgart, 1993. S. 72f, 74; Strassburger H. Die Einzlene und die Gemeinschaft im Denken der Griechen // HZ. 1954. Bd. 177. S.131ff.
[43] См. об этом: Zanker G. Op. Cit. P. 55.
[44] Redfield J. M. Op. Cit. P. 154; Schein S. L. Op. Cit. P. 163f, 174, 176ff.
[45] Например: Adkins A. Merit and Responsibility: A Study in Greek Values. Oxford, 1960.P. 112; Raaflaub K. Die Anfänge des politischen Denkens bei den Griechen // HZ, 1989, Bd. 248; Strassburger H. Op. Cit. S. 131ff; Walter U. Op. Cit. S. 72ff; Ярхо В. Вина и ответственность в гомеровском эпосе // ВДИ, 1962, 2. С. 16 слл.
[46] Подробнее см.: Donlan W. The Aristocratic Ideal in Ancient Greece. Lawrence, 1980. P. 8f; Stein – Hölkeskamp E. Adelskultur und Polisgesellschaft. Stuttgart, 1989. S. 32f; Heroes, Knights and Nutters: Warrior Maentality in Homer // Battle in Antiquity / A. B Lloyd. ( Ed. ), Duckworth, 1996. P. 15f; Ярхо В. Указ. Соч. С. 10слл, 16, 18.
[47] Я сознательно прибегаю здесь лишь к примерам, взятым из истории архаической эпохи, т.к. во- первых, мне важно показать связь Алкивиада именно с предшествующей аристократической традицией, а во-вторых, я хочу подчеркнуть именно индивидуалистический, харизматический характер борьбы за власть в архаическую эпоху, поскольку исследователи, доказывающие отсутствие патриотизма в древней Греции, предпочитают ссылаться на примеры из классической эпохи, которые лучше подходят для их теории о приоритетной интегрированности греков в корпоративные организации «партийного» типа (Pursey N.M. Op. Cit. P. 220, 223ff; Chroust A.H. Op.. Cit. P. 284ff ). На мой взгляд, это не совсем верно и для классической эпохи, а для архаики – еще меньше. Во всяком случае, если за спиной Исагора, благодаря интерпретации Аристотеля, можно пытаться увидеть какую-то политическую группировку, то заподозрить в «партийности» Килона, Демарата или Терилла уже не представляется возможным.
[48]Полагаю, что относительно причин смерти Фемистокла следует доверять основной версии Фукидида, согласно которой он умер от болезни ( Thuc., I, 138, 4 ), а не романтической легенде о его самоубийстве из-за якобы нежелания помогать персам в их борьбе против греков ( Thuc., I, 138, 4; Plut. Them., XXXI ). См.: Суриков И. Е. Античная Греция. Политики в контексте эпохи. Время расцвета демократии. М., 2008. С. 183. Думается, что при случае Фемистокл и в самом деле вернулся бы в Афины вместе с персидским войском – см.: Сапронов П. А. Указ. Соч. С. 261. Надо полагать, что, отправляясь на службу к персидскому царю, он отдавал себе отчет в том, какие услуги тот от него потребует. Оценивая его личность, следует помнить еще и такой эпизод: после войны, «недобрав» почестей у себя на родине, он отправился «дополучить» их в Спарту ( Hdt., VIII, 124; Plut., Them. XVII ). Как видно, он не был отягощен бременем патриотизма и, подобно Гиппию, Леониду, Алкивиаду и многим другим, на первое место ставил свои героические амбиции. Видимо неслучайно Цицерон позволил себе откровенно поиздеваться над версией о добровольном самоотравлении Фемистокла, полагая ее выдумкой авторов, гоняющихся за риторическими красотами ( Cic. Brutus, 43 ). Скорее всего, Цицерон знал, о чем говорил…
[49] Manville P. B. Aristagoras and Histiaios: The Leadership Struggle in the Ionian Revolt // CQ New Series. Vol. 27, No 1, 1977. P. 80 – 91. См. также: Walter U. Herodot und die Ursachen des Jonischen Aufstands // Historia. 42, 3. 1993. S. 257 – 278; Forrest W.G. Motivation in Herodotos: The Case of the Ionian Revolt // International History Review. 1, 3, 1979. P. 311 – 322.
[50] Подробнее см.: How W., Wells J. A Commentary on Herodotus. Vol. 2. Oxford, 1961. P. 165.
[51] Конечно, самому Гиппию ни при каких обстоятельствах не суждено было бы вкусить прелести власти в Aфинах в силу его преклонного возраста и скорой смерти, но здесь речь идет лишь о принципе.
[52] Видимо, до тех пор, пока не была «изобретена» демократия, появление которой в корне изменило ситуацию, так что смена политического режима – мирная или насильственная – стала затрагивать интересы многих людей, что стало причиной серьезных потрясений в греческом мире…
[53] Карпюк С.Г. Указ. Соч. С. 112сл.
[54] Данный фрагмент приводится в переводе С. Г .Карпюка по изданию: Карпюк С.Г. Указ. Соч. С. 112.
[55] Как известно, идеологию меркантилизма, подрывавшую полисные устои, обосновали именно софисты. Они сделали своей прямой целью зарабатывание денег и свободно перемещались по Греции в поисках славы и наживы. Они не были привязаны к какому – либо полису и всем своим образом жизни демонстрировали пресловутый принцип: ubi bene, ibi patria. Софисты были известны своим умением зарабатывать большие деньги искусством слова, и кажется, весьма гордились этим ( Plat., Hipp. Maior 282b – d, e; 283b; Gorg., 452e; Meno. 78c ). Об их богатстве ходили легенды. Всем было известно, что Горгий поставил себе в Дельфах золотую статую ( Paus., VI, 17, 7; Athen., XI,505 d; Cic., De orat. III, 32, 129; Plin., Hist. Nat. XXXIII, 83). Говорили также, что Горгий и Гиппий имели обыкновение выступать в пурпурных одеждах, что было несомненным признаком богатства ( Ael., Hist. Var. XII, 32 ).
[56] В другой своей речи Лисий, выступая с обвинением против афинских граждан, ставит им в вину расхождение их интересов с интересами народа, и настаивает на заслуженности ими смертной казни: «… может ли быть достаточным какое-либо наказание для людей, у которых даже интересы неодинаковы с вашими?» ( Lys., XXVII, 9; пер. С. И. Соболевского ). Таким образом, следует заключить, что официальная доктрина требовала от всех, проживающих в Aфинах – как граждан, так и метеков – лояльности к полису и подчинения личных интересов общественным. За нарушение этого принципа полагалась смертная казнь. Здесь видно, как естественное проявление патриотизма была воспринято государством и превращено в идеологическую догму и политическую обязанность. Тем самым патриотизм, как частное проявление чувств, оказался превращен в политическую обязанность под контролем у государства. Поэтому хлебные торговцы, независимо от их политического статуса, грубо нарушили этот принцип и в любом случае подлежали наказанию.
[57] Конечно, этот метек мог быть рожден уже в Aфинах, но в таком случае это было бы отягчающим вину обстоятельством.