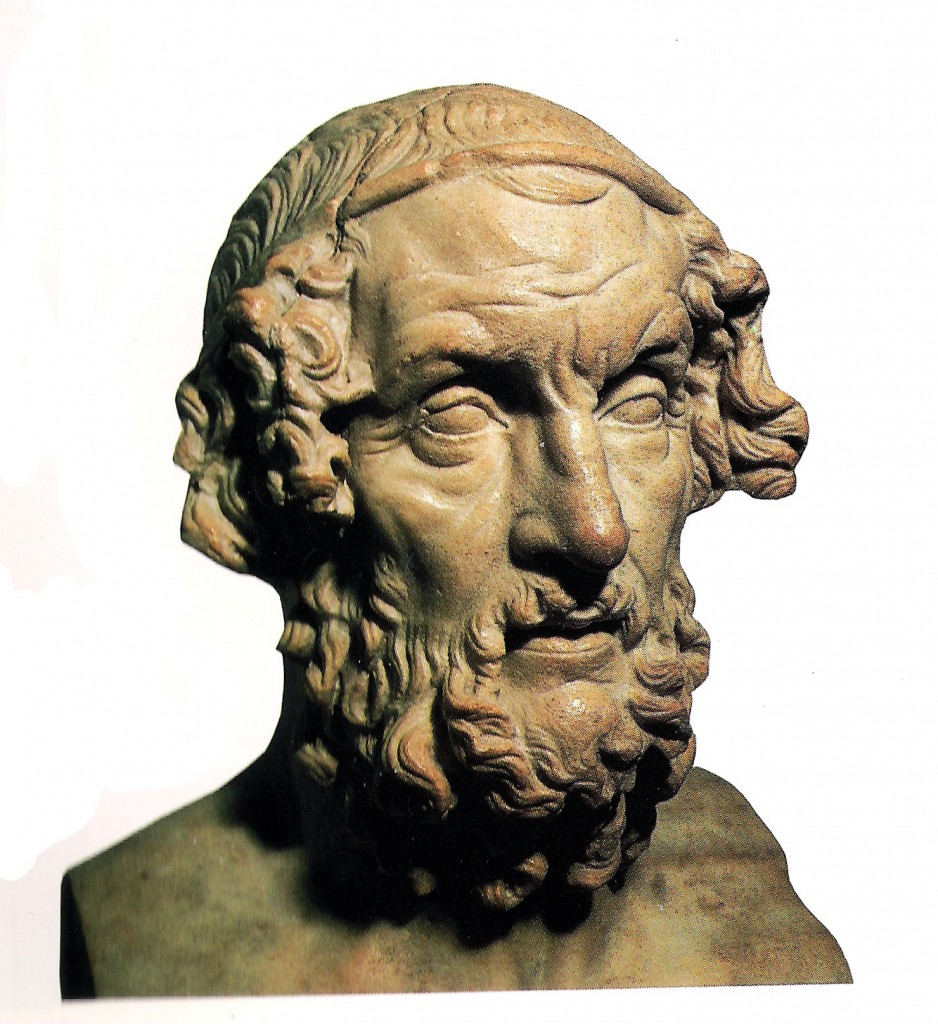
 Dr. hist. Harijs TumansPAR HOMĒRA VAROŅU ĒTISKO MOTIVĀCIJU
Dr. hist. Harijs TumansPAR HOMĒRA VAROŅU ĒTISKO MOTIVĀCIJU
Pulicēts: Latvijas Universitātes raksti. Filosofija, 2008. Nr. 739. Lpp. 70 – 81.
Katra kultūra un laikmets izstrādā savu varoņa tēlu, jeb cilvēka ideālu, tādu, kuram tiek piešķirts parauga statuss. Pasaules vēsture pazīst daudz varoņu – tie ir bijuši priesteri, askēti, karotāji, tirgotāji, biznesmeņi un beidzot, arī killeri, prostitūtas, zagļi, blēži un citi dažāda veida “veiksminieki”. Aiz šiem dažādajiem varoņu tēliem slēpjas katras kultūras īpatnība un tās būtība. Tādēļ zināt par to, kuras cilvēka īpašības un kādēļ tiek uzskatītas par svarīgākajām un cienījamākajām katrā konkrētā laikā un vietā, nozīmē saprast par konkrēto kultūru, jo tā ir viena no tām “atslēdziņām”, kas ļauj mums atslēgt kādas mīklainas durtiņas un ieskatīties pagātnes un tagadnes noslēpumos. Tas ir īpaši aktuāli, ja mēs runājam par sengrieķu kultūru, kur varonības ideja visos laikos spēlēja īpaši nozīmīgu lomu. Nav šaubu, ka varonības ideāls, kurš visspilgtāko iemiesojumu atrada Homēra poēmās, veidoja grieķu kultūras mugurkaulu, jeb tās “dvēseli”, kā dažreiz mēdz teikt[1]. Tādēļ ir īpaši svarīgi saprast šo Homēra varonības fenomenu, kas ir tā savdabīgā “atslēdziņa” grieķu kultūras izpratnei. Nav iespējams iztirzāt visu šī fenomena būtību vienā rakstā, bet var mēģināt apskatīt tā vienu šķautni. Par svarīgāko tādu šķautni es uzskatu varoņu motivācijas jautājumu. Saprast to, kas motivēja varoņus rīkoties, saprast to, kas vispār mudināja cilvēkus pieņemt un turēt varoņa stāju, nozīmē saprast pašu galveno par šo fenomenu. Mana visdziļākā pārliecība ir, ka šie motīvi ir atrodami vienīgi ētikas plaknē un nekur citur. Taču, lai to pieradītu, vispirms ir jānokauj trīsgalvaina hidra – priekšstati par to, ka Homēra varoņu rīcību determinēja trīs lietas: ekonomiskās intereses, dievi un liktenis. Ar šīs hidras nokaušanu es arī sākšu.
Parasti, balstoties uz priekšstatiem par ekonomiku kā cilvēka dzīves pamatu, vēsturnieki izskaidro varoņu statusu ar viņu materiālo labklājību [2]. Daži pat uzskata, ka arī Homēra varoņu gods ( timē ) izriet no viņu bagātības[3]. Man liekas, ka tas ir izteikts vēstures modernizējuma piemērs, jo tikai mūsdienu rietumu sabiedrībā, kur bagātība ir ieņēmusi centrālo vietu vērtību sistēmā, tā ir gan statusa, gan goda avots. Turpretī pats Homērs bija pārliecināts, ka gods izriet no Zeva, nevis no turības ( Il., XVII, 291 ). Un arī paši eposa varoņi bija pārliecināti, ka viņu statuss balstās viņu pašu spējās un nopelnos nevis bagātībā. Lūk, piemēram, kā Likijas ķēniņš Sarpedons uzrunā citu likiešu basileju[4] – Glauku pirms kaujas:
“Kāpēc gan Likijā, Glauk, mūs godina pārāk par visiem,
Ierāda labāko vietu, dod gaļu un vīnkausus pilnus,
Skatus met visi pret mums, kā tieši pret vareniem dieviem ?
Kāpēc mums jāstrādā zeme ap ziedošiem Ksantupes krastiem,
Rūpīgi vīndārzi jākopj un tīrumi, bagāti kviešiem ?
Tāpēc mums pienākas arī starp dūšīgiem likiešu pulkiem
Nostāties pirmajās rindās un sparīgi cīnīties priekšā,
Lai jel tā sacītu katrs starp likiešiem, bruņotiem labi :
Ne jau nu gluži bez slavas mums dūšīgi vadoņi valda
Auglīgo likiešu zemi, nav veltīgi ēduši aunus,
Veltīgi dzēruši vīnu jo saldu, bet spēku tiem gana,
Tāpēc, ka priekšējās likiešu rindās tie drosmīgi cīnās!”[5]
( Il., XII. 310 – 321 )[6]
Šī vieta mums atklāj divas būtiskas lietas. Pirmkārt, šeit ir norādītas tās balvas, kuras basileji saņem no tautas: publisks pagodinājums dzīru laikā un labākais zemes gabals ( temenos ); otrkārt, mums skaidri un gaiši tiek pateikts, kāpēc paši varoņi uzskata, ka viņiem tas viss pienākas – tāpēc, ka “spēku tiem gana” un “priekšējās likiešu rindās tie drosmīgi cīnās!” Zīmīgi šķiet tas, ka basilejs pirmajā vietā tomēr neliek zemi, kas ir viņa materiālās labklājības pamats, bet gan publiski saņemto godu. Turklāt, viņš skaidri pasaka arī to, kādā veidā ķēniņi tiek pie savas zemes – to viņiem piešķir pati tauta. Tātad, temenoss un visa varoņu bagātība ir balva[7] un statusa sekas, nevis tā avots! Eposā var atrast vēl vairākas vietas, kas apliecina to pašu, ( Il., VI, 175 – 195;IX, 573 – 599; Od., XIV, 230 – 235 ) un ir tikai viens vienīgais piemērs, kad cilvēks piesakās uz varoņdarbu materiālā apbalvojuma dēļ. Tas ir izteikti karikatūrisks Dolona tēls, parodija par pseidovaroni. Viņš ir ārēji neglīts, ( Il., X, 316 ) un pāri pleciem viņam uzmesta vilka āda ( Il., X, 334 ), kas jau pati par sevi raksturo viņa patieso dabu[8]. Pirms pietiekšanās iet izlūkos uz ahaju nometni, viņš pieprasa no Hektora balvu – Ahilleja zirgus un kaujas ratus ( Ibid., 321sqq ). Komiskā veidā ar šādām pārmērīgām ambīcijām uzstājas cilvēks ar gļēvu raksturu, tik gļēvu, ka, tikko ieraudzījis pretiniekus, viņš metas bēgt kā zaķis ( Il., X, 358 – 364 ) un pēc tam, nonācis gūstā, zemiski trīc, cenšas izlūgties dzīvību un nodevīgi izstāsta ahajiem visu, ko tie vēlas zināt ( Il., X, 374 – 381, 390sqq ). Tātad, visā Homēra eposā ekonomiskā motivācija piemīt tikai vienam pseidovaronim.
Vārdu sakot, saskatīt Homēra varoņu motivācijā ekonomisku faktoru nozīmē modernizēt un projicēt mūsdienu domāšanu uz pagātni, uzspiežot tai savus vērtēšanas kritērijus[9]. Tas, ka mūsdienu dzīve visās tās jomās ir ekonomikas caurstrāvota, tai pakļauta un no tās atkarīga, nenozīmē, ka tā ir bijis visās kultūrās un visos laikos. Tas nozīmē tikai to, ka mēs dzīvojam tādā laikā un tādā sabiedrībā, kur nedalāmi valda nauda, kas ir gan izšķirošais dzīves faktors, gan arī augstākā sabiedrības vērtība. Taču visiem domājošiem cilvēkiem ir skaidrs, ka tā cilvēki nav dzīvojuši visur un vienmēr. Ekonomiskais determinisms nebūt nav universāla domāšanas shēma, tā atbilst vienīgi modernās apziņas specifikai, turklāt ne absolūti. Nav nejauši, ka Johans Heizinga raksturoja šādu domāšanas veidu kā “apkaunojošus maldus”[10].
Taču ekonomiskais determinisms nav vienīgais, kuram pētnieki cenšas pakļaut Homēra varoņu rīcību. Cits tipisks skaidrojuma veids ir tāds, kas padara tā laika cilvēkus par viscaur bezspēcīgām un nepatstāvīgām būtnēm, īstām spēļu mantiņām dievu un likteņa rokās. Ir pat izskanējis viedoklis, ka pateicoties tam, grieķu varonību vislabāk raksturo bērnības un nebrīvības jēdzieni[11]. Bērnība / bērnišķība – tādēļ, ka Homēra varoņi esot ļoti atkarīgi no dieviem, viņiem nemitīgi nepieciešams dievu atbalsts un palīdzība, bet nebrīvība – tādēļ, ka grieķus uz varonību piespiež liktenis un viņi kļūst par varoņiem pat pret savu gribu[12]. Saprotams, ka tāda pozīcija nedod iespējas runāt par varoņu patstāvīgu ētisko rīcību un gribas brīvību. Tādēļ, lai to vispār atklātu, ir jānokauj vēl šīs divas hidras galvas.
Kas attiecas uz dieviem, tad jāsaka, ka principā visās reliģijās cilvēku un dievu / Dieva attiecības vislabāk iekļaujas tieši vecāku un bērnu modelī. Tas ir pašsaprotami un tādēļ šķiet, ka nav nekādas vajadzības izcelt to kā specifisku grieķu varonības raksturpazīmi un kaut ko tai pārmest. Par tāda bērnišķīga varoņa paraugu P. Sapronovs uzskata Ahilleju, īpaši norādot uz epizodi, kur varonis sūdzas Tetīdai par aizvainojumu, ko saņēmis no Agamemnona ( Il., I, 351sqq )[13]. Tomēr šis piemērs ir vismazāk korekts dotajā gadījumā, jo Tetīda ir ne tikai dieviete, bet arī īstā Ahileja māte! Bet, runājot par situāciju kopumā, ir jāsaka, ka jau no pirmā acu uzmetiena kļūst uzkrītoša dievu līdzdalība cilvēku un konkrēti, varoņu gaitās. Eposā dievi vienmēr ir klātesoši, un rodas iespaids, ka bez viņiem nekas nenotiek. Olimpa iemītniekiem uz zemes ir savi mīluļi vai bērni un viņi katrs cenšas tiem palīdzēt, iejaucoties viņu lietās. Tas izpaužas tā, ka dievi dod varoņiem spēku ( Il., XV, 243 – 269; XIII, 59sqq; XIX, 350sqq; XX, 95; ), piešķir viņiem skaistu izskatu ( Il., Il., 478sqq; XVIII, 203 – 214; Od., II, 12; VI, 229sqq; VIII, 12sq; XVI, 172sq etc. ), dod zīmi, brīdina par briesmām ( Il., VIII, 75sqq, 130sqq, 245; X, 274sqq; XI, 714sq; Od., III, 371; XV, 7 – 43 ), dod derīgus padomus ( Il., I, 194 – 214; XIII, 219; XVII, 322sqq; Od., II, 268sqq; IV, 360sqq etc. ), iedvesmo un ieliek krūtīs kareivīgumu ( Il., X, 366; XVI, 691; XX, 79sq; XXI, 545sqq ). Vēl vairāk – dievi paši piedalās kara darbībā un palīdz saviem mīluļiem tiešā veidā, dodoties blakus viņiem kaujā ( Il., V, 594sq, 835 sqq ) un glābjot viņus no drošas nāves, atvairot lidojošo bultu vai šķēpu, vai pat izraujot savu varoni prom no kaujas lauka ( Il., III, 374 – 382; IV, 127sqq; XI, 437sq; XII, 401sq; XIII, 554sq; XV, 461sq; XX, 310 – 330; 438 – 454; XXI, 595sqq; Od., XXII, 225sq, 270sqq etc. ). Dažreiz dievība karo arī pati, pavirzot varoņa šķēpu tā, lai tas trāpītu ienaidniekam ( Il., V, 290 ), vai pat pašrocīgi dodot triecienu cilvēkam – tieši tādā veidā Apollons nogalināja Patroklu ( Il., XVI, 788 – 805 ). Dievība var ietekmēt kaujas gaitu arī uzsūtot karavīriem bailes pēc saviem ieskatiem ( Il., XI, 544sqq; XVI, 656; Od., XXII, 297sqq ). Galu galā tieši dievi dod varoņiem uzvaru un slavu (Il., VII, 154sq; XXI, 291sqq; XXII, 130 ). Un “Odisejā” Atēna tik ļoti palīdz savam mīlulim Odiesejam, ka blakus visam minētajam, viņa vēl dod viņam labu ceļa vēju ( Od., 382sqq ), apgaismo viņam ceļu ( Od., XIX, 33sqq ), apsedz viņu ar miglu, lai ienaidnieki viņu nepamanītu ( Od., XXIII, 370sq ), dara vēl daudz ko citu un pat sargā viņa mantas, kamēr viņš guļ ( Od., XIII, 221 – 440 ).
Vārdu sakot, no tā visa viegli var rasties iespaids, ka pašiem varoņiem nav nekādu nopelnu viņu varonībā, jo viņi itin visu saņem no dieviem. Dabiski, ka šādā situācijā, kur viss ir totāli atkarīgs no dieviem, cilvēks visu atbildību var novelt uz dieviem, kā tas lieliski redzams gadījumā, kad abi lielākie varoņi, – Agamemnons un Ahillejs, – uzliek dieviem vainu par viņu starpā izcēlušos strīdu, kas bija tik ļoti postošs visiem ahajiem ( Il., XX, 90 – 99; XIX, 85 – 88, 270 -274 ). Uz šādu piemēru pamata dažiem pētniekiem arī sāka likties, ka Homēra cilvēkiem nav savas gribas, vainas apziņas un atbildības izjūtas, un tas automātiski izraisīja veselu diskusiju par šo tēmu[14]. Taču man šķiet, ka uzskatīt episkos cilvēkus par vienkāršām marionetēm dievu rokās bez savas gribas un nozīmes,[15] ir stipri pārspīlēti. Apelējot pie veselā saprāta un loģikas, var teikt, ka tādā gadījumā varoņu vietā eposā darbotos nesimpātiski, vāji personāži, drīzāk lelles, nekā pilnvērtīgi cilvēki un noteikti ne personības un ne varoņi. Jāsaka, ka diez vai tāds eposs būtu varējis pārdzīvot pat savu laiku, nemaz jau nerunājot par visiem laikiem…
Taču veselais saprāts un loģika ne vienmēr ir arguments zinātniskā strīdā, tādēļ ir jāgriežas pie paša eposa liecībām. Pirmkārt, skeptiski noskaņotie pētnieki “nepamana”, ka citā vietā tas pats Agamemnons veselas divas reizes publiski ir atzinis savu vainu ( IX, 115 – 119 ), uzsvērdams, ka vispirms bija viņa nepareizā rīcība, un tikai pēc tam dievi aptumšoja viņam prātu: “es kļūdījies esmu un Zevs man ir atņēmis prātu” ( Il., XIX, 137 ).Tātad, varonis par notikušā cēloni uzskata dievu, bet tajā pat laikā atzīst savu vainu kā nepareizu rīcību. Tāpat arī Hektors īsi pirms nāves nožēlo, ka nav paklausījis gudram Polidamasa padomam un atzīst savu vainu, teikdams, ka ar savu neprātīgumu viņš ir pazudinājis trojiešu tautu ( Il., XXII, 103sqq ). Viņa gadījumā netiek vainots neviens dievs, bet varonis pats uzņemas atbildību par savu aplamo rīcību. Otrkārt, nav nekāda pamata runāt par to, ka Homēra cilvēkiem nav savas gribas – teksta analīze uzrāda, ka cilvēki pieņem lēmumus ne tikai paklausot dievu vārdiem, bet arī patstāvīgi. Viņi paši izdara izvēli starp dažādiem variantiem, atrod piemērotus līdzekļus savu mērķu sasniegšanai, šaubās, domā un risina iekšējus monologus ( Il., X, 3 – 20; XIII, 455sqq; XVI,646sqq; XXI,551sqq; Od., IX, 300sqq; XI, 229 etc… )[16]. Tas nozīmē, ka viņiem piemīt parastas cilvēciskas īpašības un pirmkārt, brīva griba, pateicoties kurai viņi paši izdara savu izvēli un kļūst par varoņiem. Piemēram, Homēra iemīļotais Odisejs neko nedara neapdomājot, vai akli paklausot kādai dievībai. Šajā ziņā interesanta ir epizode, kad viņš pats savalda sevi, uzrunājot savu sirdi, lai dusmās neuzbruktu savām nodevīgajām kalponēm un negantajiem preciniekiem un tādējādi neatklātu sevi pirms laika: “Pacieties tagad vēl, sirds! Tu cietusi esi daudz vairāk!” ( Od., XX, 5 – 24 ). Odisejs , neskatoties uz Atēnas nerimstošo atbalstu, savā izvēlē ir tik neatkarīgs, ka bīstamā situācijā viņš pieņem lēmumu pat par spīti dievietes Ino padomam, jo šajā situācijā viņš paļaujas tikai pats uz savu prātu un spēku un labi zina, ka dievi var dot arī maldīgus padomus ( Od., V, 333 – 364 ). Starp citu, varonis nebūt vienmēr nav drosmīgs, pateicoties kāda dieva iedvesmai – viņš var būt drosmīgs arī paša sirds pamudināts, kā, piemēram, trojietis Agenors, kuram pietika dūšas nostāties pretī Ahillejam ( I., XXI, 573 ). Arī par pašu Ahilleju ir teikts, ka uz divkauju ar Eneju viņu mudināja “paša spēks un sirds drosme” ( Il., XX, 174sq ).Treškārt, varoņu – dievu attiecības nav nemaz tik viendimenisionālas kā tas varētu likties. Cilvēki tiek iesaistīti dievu savstarpējās ķildās un šajā kontekstā var pat ar ieročiem rokās uzbrukt kādam dievam, kā to darīja Atēnas atbalstītais Diomeds, kad uzbruka gan Afrodītei, gan Arejam ( Il., V, 330 sqq, 837sqq ). Vispār, cilvēku un dievu attiecībās ir iespējams saskatīt vairākus šo attiecību modeļus[17].
Un beidzot, eposā var labi izsekot tam, kā pieaug un nostiprinās doma par cilvēka personīgo atbildību par savu rīcību. Atbildību veicina apziņa, ka dievi soda cilvēkus par morāli ētisko normu pārkāpumu. Šī doma ir skaidri izteikta jau “Iliādā” ( Il., 384 – 393 ), bet savu kulmināciju sasniedz “Odisejā”[18], kur sodīti tiek visi pārkāpēji – gan negantie Penelopes precinieki, kas terorizēja viņu un postīja Odiseja namu ( Od., XXIV, 325, 351sq ), gan Odiseja ceļabiedri, kas apēda dievam veltītos vēršus ( Od., 353 – 420 ) utt.. Var teikt, ka “Odisejas” galvenā vēsts ir tieši tā, ka pateicoties dieviem visi nelieši agri vai vēlu saņems savu sodu un taisnība uzvarēs. Sen jau tika pievērsta uzmanība tam, kā šajā ziņā atšķiras abu poēmu ievadi[19]: ja “Iliādas” sākumā dzejnieks vēršas pie dieviem ar jautājumu, kurš no viņiem izraisīja liktenīgo strīdu starp Ahilleju un Agamemnonu ( Il., 1 – 10 ), tādējādi uzliekot atbildību par visu notikušo uz nemirstīgajiem, tad “Odisejas” sākumā tiek aprakstīta dievu sapulce, kurā pats Zevs apgalvo, ka cilvēki paši nopelna sev sodu ar savu nepareizo rīcību:
“Brīnums, ka mirstīgie ļaudis par visu tik mūžīgos vaino!
Vienīgi, apgalvo viņi, no mūžīgiem rodoties ļaunums –
Paši aiz negoda prāta krāj sodu pret likteņa gribu!”
( Od., I, 32 – 34 ).
No visa tā var secināt, ka varonis, neskatoties uz dievu nemitīgu iejaukšanos, ir brīvs savā rīcības izvēlē un patstāvīgs lēmumu pieņemšanā. Kādreiz dievība var viņu izsist no sliedēm, uzsūtot bailes vai arī aptumšot prātu, pamudinot uz kādu neprātīgu rīcību, kā tas bija Agamemnona un Ahilleja gadījumā, taču īsts varonis tomēr ir gatavs nest atbildību par savu rīcību, pat ja viņš apzinās, ka tā ir dievu izraisīta. Tā Agamemnons, kaut arī apgalvoja, ka viņa prātu aptumšoja Ate[20] un Zevs, un pat nosauca viņus par īstiem vaininiekiem ( Il., XIX, 85 – 91 ), tomēr divas reizes publiski atzina savu vainu un meklēja ceļu uz izlīgumu ( Il., IX, 114 – 161; XIX, 76 – 144 ). Vispār šis gadījums ir ļoti zīmīgs un uz viņu vienmēr atsaucas, kad runā par vainas apziņas deficītu Homēra cilvēkos[21], tādēļ ir vērts ieskatīties tajā dziļāk. Agamemnona domu secība ir šāda: vispirms viņš skaidri pasaka, ka ir rīkojies aplami, paklausot savai apbēdinātajai sirdij ( Il., IX, 119 )[22]; pēc tam viņš uzveļ vainu dieviem ( Il., XIX, 85sqq ) un beidzot, apvienojot abus cēloņus kopā, atzīst gan savu vainu, gan dievu iejaukšanos ( Il., XIX, 137sq ). Tātad, par savu vainu Agamemnons uzskata to, ka paklausīja savai aptumšotajai, apbēdinātajai sirdij[23]. Tas nozīmē, ka cilvēka prāts ir viņa “es”, kas pieņem patstāvīgus lēmumus un izvēlas, piekrist sirds impulsiem, vai nē. Savukārt dievi iespaido tieši viņa jūtas. Turklāt svarīgi ir tas, kā viņš pasniedza savu vainu – vispirms tika nosaukta nepareiza rīcība un tikai pēc tam bija teikts, ka Zevs un Ate “laupīja prātu” viņam. Iznāk, ka dievu uzsūtīta apmātība ir otrā pēc kārtas un seko viņa paša aplamai rīcībai. Vai tas nenozīmē to, ka dievi “sajauc galvu” tikai tiem cilvēkiem, kas to ir pelnījuši ar savu ačgārno rīcību? Tādā gadījumā nav vairs nekāda pamata runāt par Homēra varoņu nepatstāvību. Un īstais varonis acīmredzot, ir tas, kas spēj uzņemties atbildību par savu rīcību, kaut arī ar mājieniem dievu virzienā, kā tas ir Agamemnona gadījumā.
Ja dievu sūtīta apmātība un viņu sodi seko cilvēku nepareizai rīcībai, tad ir dabiski domāt, ka arī dievu dotās dāvanas ( harizma ), ir apbalvojums cilvēkam par viņa krietnumu. Šo ideju ļoti labi izsaka seno romiešu teiciens: “fortes fortuna adjuvat”[24]. Tā ir universāla antīkā laikmeta pārliecība, ka dievi mīl tos, kas ir krietni un pelnījuši viņu simpātijas. Bieži vien, kad Homēra eposā dievība parādās sava mīļota varoņa priekšā ar laipnu pamudinājumu, ir labi redzama viņas simpātija pret šo cilvēku, jo tādos gadījumos varonis tiek uzrunāts ar cēliem, pagodinošiem vārdiem ( piemēram: Il., X, 507 sqq; Od., II, 268 – 280; III, 330sq; XIII, 375 etc. ). Tas varētu nozīmēt, ka jebkurā gadījumā primāra ir cilvēka daba, viņa iekšējais “es” un morālā izvēle. Taču principā, mēs laikam nekad nevarēsim līdz galam saprast un skaidri pateikt, kas kurā brīdi ir primāri – dievu žēlastība un dusmas, vai cilvēku griba un izvēle? Acīmredzot tas katru reizi ir savādāk…
Lielā mērā viss teiktais attiecas arī uz likteņa noteikto determinismu. No vienas puses eposā visi ir pārliecināti, ka cilvēks ir pilnībā pakļauts liktenim ( piemēram: Od., XII, 386 ). Katram cilvēkam viņa liktenis ( “daļa” – aisa )[25] jau no pašas dzimšanas auž viņa dzīves līniju ( Il., XX, 127sq ), un beigās visiem ir viens liktenis – nāve:
“ Visur, kur eji, tev priekšā jau nolemta nāve.
Slēpties un izbēgt no viņas nav mirstīga cilvēka varā”
( Il., XII, 326 – 327 )
Tā ir tipiskākā Homēra doma par likteni un eposā ir izkaisītas vēl daudzas tāda tipa sentences ( piemēram: Il., VI, 488 – 489; XVI, 853; XVIII, 120; XXI, 10 etc. ). Turklāt, bieži vien liktenim tiek pakļauti arī paši dievi, kuri šad un tad tiek parādīti kā likteņa gribas izpildītāji ( Il., III, 155; V, 674; VIII, 69 – 84; XXII, 209 – 213 etc. ). Bet, vai tas tiešām nozīmē totālu fatālismu un to, ka cilvēkam nav gribas un rīcības brīvības? Domājams, ka tas tā tomēr nav. Pirmkārt, jau tādēļ, ka eposā šajā jautājumā nav nekādas dogmatiskas viennozīmības un pastāv arī diametrāli pretējas tendences, kas par likteņa autoriem padara dievus, vai pat liek tos augstāk par likteni ( Il., VIII, 429sqq; XVI, 431 – 438; XVIII, 115sq; Od., III, 242; XI, 556sqq; XIII, 128sqq )[26]. Otrkārt, un galvenokārt, tādēļ, ka Homēra cilvēks parasti neko nezin par savu likteni un rīkojas neatkarīgi no tā, tātad, brīvi. Piemēram, kad Hektors pirmo reizi satiekas ar Ahileju kaujas laukā, viņš, apzinoties pretinieka pārākumu tomēr saka viņam šādus vārdus:
„Zinu, cik spēka tev vairāk, cik esmu es vājāks par tevi.
Mirstīgo nākotne taču ir apslēpta mūžīgo klēpī[27].
Varbūt ka es, kaut esmu daudz vājāks, tev laupīšu elpu,
Mezdams šo šķēpu, jo arī šim ierocim smaile ir asa.”
Nav pamata apgalvot, ka Homēra varoņi, kas visā savā būtībā ir orientēti uz panākumiem, uzvaru, slavu, tikai likteņa piespiesti ir gatavi samierināties ar savu varonīgo nāvi, no kuras viņi, ja tas būtu iespējams, labprāt atteiktos[28]. Tas pats Hektora piemērs liecina pret šo pieņēmumu. Vēl pirms viņš bija nostājies ar ieročiem pret Ahilleju, viņa liktenis jau tika izlemts debesīs, kur Zevs dievu vidū nosvēra uz zelta kausiem abu varoņu likteņus un, sekojot iegūtajam rezultātam, paziņoja par Hektora nāvi un Ahilleja slavas stundu ( Il., XXII, 209 – 218 ). Taču tas, par spīti dažiem mūsdienu apgalvojumiem[29], nekādā veidā nenoteica Hektora rīcību, jo viņš neko nezināja par likteņa lēmumu līdz tam brīdim, kad nepārprotami ieraudzīja, ka viņa gals ir klāt. Līdz ar to likteņa spriedums nosaka tikai divkaujas iznākumu un neko nenozīmē varoņa heroismam – Hektors devās cīņā, nezinot gala rezultātu, būdams gatavs uz visu. Pirms cīņas viņš vēl cerēja uz labu iznākumu:
“Būtu daudz labāk jau cīniņu sākt, lai redzētu ātrāk,
Skaidri mēs to, kam Olimpa valdnieks būs piešķīris slavu”
( Il., XXII, 129 – 130 ).
Un pēc brīža, pašās beigās, kad viņš jau saprata savu likteni, tas vairs neizraisīja viņā ne mazāko šaubu, nožēlu, vai baiļu – ar zobenu rokās viņš droši devās pretī savai nemirstībai.
Vārdu sakot, neskatoties uz dievu un likteņa reālo klātesamību visās pasaules lietās, Homēra varoņi ir principiāli brīvi savā izvēlē. Viņu rīcības motivācija nav determinēta no ārpuses, bet gan slēpjas viņos pašos. Tās avotu tagad var meklēt tikai viņu pašu ētiskajā vērtību sistēmā. Šīs sistēmas būtību veido, kā zināms, varoņa ideāls, kuru ir pierasts apzīmēt ar vārdu kalokagatija un kas iekļauj sevī gan ārējo, gan iekšējo skaistumu[30]. Tā pamatā ir Homēra cilvēku priekšstati par krietnumu ( aretē ), kas aptver visas pozitīvās tikumiskās un fiziskās īpašības[31]. Tādējādi iet varoņa ceļu Homēra pasaulē nozīmē pēc iespējas vairāk līdzināties šim ideālam. Grieķu eposa varoņiem gluži tāpat kā viduslaiku bruņiniekiem “būt”, t.i., būt pašam par sevi, nozīmēja atbilst noteiktajam īpašību kopumam[32].
Taču varonības ceļam, kā ikvienam ceļam, ir savas robežas, kuras pārkāpjot gājējs nonāk neceļā vai grāvī. Par tādām ceļu iezīmējošām robežām Homēra varoņiem kalpo divi diametrāli pretēji ētisko vērtību poli, viens pozitīvs un otrs – negatīvs. Pirmo veido tas, pēc kā varonis visvairāk tiecas, bet otro – tas, no kā viņš visvairāk cenšas izvairīties. Tiecas viņš pēc slavas un baidās krist kaunā. Starp šīm galējībām atrodas viņa ik brīža rīcības izvēle. Gods neļauj varonim rīkoties pretēji pieņemtajai ētikas sistēmai, bet slava dod viņam motivāciju rīcībai un mierinājumu domās par likteni un nāvi. Piemēram, Ahillejs izvēlē starp ilgu dzīvi bez slavas un drīzu nāvi ar slavu, nešauboties izvēlas otro. Apziņu par tuvo nāvi viņš pilnīgi kompensē ar pārliecību, ka “gulēšu kritis, bet tagad sev iegūšu raženu slavu!” (Il., XVIII, 121 ). Tas ir vispārīgs varonības normatīvs, kura dēļ varoņi dodas cīņā, neklausot nekādiem prāta argumentiem, jo gods un slava ir augstāk par visu. Kritiskā brīdī ikviens īsts varonis stājas cīņā ar apņēmību gūt uzvaru, vai zaudēt savu dzīvību ( Il., XIII, 424sqq ). Uzvaras gadījumā viņš iegūst slavu pats, bet pretējā gadījumā – atdos to savam pretiniekam. Varoņi ļoti labi saprot šo “slavas riņķošanas likumu”, uztver to ļoti vienkārši kā dzīves dabisku principu, un tas ir labi redzams viņu pašu vārdos, kas ļoti bieži skan tāpat kā Sarpedona vārdi pirms kaujas: ”tikai uz priekšu ! Lai slavu sev pašiem vai naidniekam gūstam!” ( Il., XII. 328; skat. vēl: Il., V,653sqq; XIII, 326sq; XVI, 619sqq etc. ). Homērs pat divas reizes uzsver, ka Patrokla nāve piešķir slavu Hektoram ( Il., XVIII, 456; XIX, 413 ). Vispār, Homēra varoņi bieži atkārto šo domu, ka varonis cīņā vai nu nopelna sev slavu, nogalinot ienaidnieku, vai pats dāvina slavu savam pretiniekam, ja krīt ( skat.: Il., V, 653sqq; XIII, 326sqq; XVI, 619sqq ). Jebkurā gadījumā kaujas laikā tiek iegūta slava un tad, kad viens to zaudē kopā ar dzīvību, otrs to iegūst. Tas izskatās pēc savdabīga dabas likuma, kas labi iekļaujas antīkās dzīves un pasaules riņķošanas koncepcijā.
Var teikt, ka varonis tiek atpazīts citu starpā arī pēc savām slavas alkām. Par Ahilleju ir teikts, ka viņš “rāvās uz priekšu, lai slavu sev gūtu”( Il., XXI, 543 ). Faktiski, slava ir pats galvenais, pēc kā varonis tiecas un ko viņš ārkārtīgi baidās pazaudēt. Tādēļ Ahillejs, dzenoties pakaļ Hektoram apkārt Trojas mūriem ir aizliedzis saviem karavīriem šaut ar bultām uz Hektoru, jo baidījās, ka “slavu kāds varētu gūt un pats tad vairs būtu tik otrais” ( Il., XXII, 205sq ). Šeit parādās vēl viena raksturīga varoņu īpašība, kas izriet no viņu slavas kāres – tieksme vienmēr būt pirmajiem. Uzvara, pārākums pār citiem, pirmā vieta tādā vai citā lietā – ir nepieciešami slavas un pagodinājuma priekšnosacījumi. Tādēļ ir dabiski, ka varoņi attiecīgi tiek audzināti un visu mūžu dzīvo ar šo tieksmi uz pārākumu. Lūk, piemēram, kā Ahilleja tēvs mācīja savam dēlam varoņa stāju:
“Mācīja sirmgalvis Pelējs Ahillejam censties uz priekšu,
Nezaudēt vīrišķo drosmi un nostāties pāri pār citiem”
( Il., XI, 782 – 783 )
Šie vārdi atkārtojas arī tad, kad likiešu varonis Glauks stāda sevi priekšā savam pretiniekam pirms divkaujas:
“Esmu Hipoloha dēls; par tēvu es godāju viņu;
Mani tas sūtīja šurpu un mācību deva jo krietnu:
Visur un vienmēr būt krietnam, lai pārāks būtu par visiem,
Godāt tos slavenos senčus, kas bijuši drošākie vīri
Auglīgos Efiras laukos un plašajā Likijas zemē.
Tāda es dzimuma esmu un tādas man asinis dzīslās”.
( Il., VI. 206 – 211 )
Būtībā tas ir varonības manifests īsā veidā, kurā autors norāda uz sava krietnuma svarīgākajām sastāvdaļām, kas ir laba izcelsme, laba audzināšana, pareizie dzīves orientieri, cieņa pret senčiem un tieksme pēc pārākuma, kas dod slavu un godu.
Savukārt tas, no kā varoņi baidās, atrodas otrā vērtību polā, jau ar mīnusa zīmi, un tas ir kauns. Principā varoņiem bailes ir svešas – viņi droši skatās nāvei acīs, bet tam, kas nebaidās no nāves, nav vairs no kā baidīties. Taču tas, kas pakļauj dzīvi goda un slavas imperatīviem, neizbēgami baidās iekrist kaunā, kas apdraud gan viņa godu, gan slavu, gan statusu. Protams, tās vairs nav bailes šī vārda pierastā nozīmē, tas ir drīzāk morālas dabas stimuls, kas neļauj tādam cilvēkam zaudēt varoņa stāju. Tādēļ eposā bieži vien kritiskajos brīžos tiek atgādināts par kaunu, kas liek varoņiem saņemties un turēt savu pozīciju līdz galam. Kauna ideoloģija vislabāk izskan Agamemnona vārdos, ar kuru palīdzību viņš kritiskā brīdī centās iedvesmot ahajus cīņai:
“Draugi, jel esat kā vīri! Lai drosmes jums netrūktu krūtīs!
Kaunēties nākas jums vienam no otra, kad iesākas cīņa!
Tur, kur ir valdījis kauns, būs kritušu mazāk kā dzīvu.
Bēgošiem slava nav lemta, nav glābiņa pārnākot mājās´.
( Il., V. 529 – 532 )
Tāpat arī citi, gan ahaju, gan trojiešu varoņi mudina viens otru uz cīņu, kauninot vai atgādinot par kaunu un vienmēr tāds atgādinājums stiprina drosmi tajos, kam tas ir veltīts ( Il., V, 785sqq; VII, 161sqq; VIII, 227sqq; XIII, 11sqq; XV, 501sq; XVI, 421sq; XVII, 334sqq ). “Odisejā”, kur kaujas situācija ir sastopama tikai dažreiz, par kaunu tiek atgādināts nepienācīgas, ētiski nepareizas rīcības gadījumos, piemēram, ja saimnieks ļauj citiem aizvainot ciemiņu savā mājā ( Od., XIII, 214 – 225 ), vai arī, ja netiek atriebts par tuvinieku noslepkavošanu ( Od., XXIV, 420 sqq ). Tajā pat laikā par kaunu ne tikai atgādina viens otram, par to atceras katrs varonis arī pats sevis priekšā, līdzīgi kā Odisejs, kurš, palikdams viens pret daudziem pretiniekiem kaujas laukā, uzmundrina sevi ar vārdiem: “vai man! Ko tagad lai sāku? Būs vienīgi negods, ja bēgšu, bīdamies lielāka pūļa” ( Il., XI, 404sq ). Un kad trojiešu uzbrukums piespieda ahajus jau pie pašiem kuģiem, kad likās, ka vēl mazliet un viņi neizturēs spiedienu un metīsies bēgt, tad, Homēra vārdiem “bailes tiem bija un kauns; cits citu tie cīnīties sauca”( Il., XV, 656sq ).
Tātad, kauns kalpo gan par paškontroles, gan par sabiedriskās kontroles instrumentu. Citiem vārdiem, varonis ir atbildīgs gan savas sirdsapziņas priekšā, gan savas tautas priekšā. Krietnam cilvēkam sirdsapziņa dod pietiekoši spēcīgu motivāciju – viņam kā Odisejam ir kauns pašam sevis priekšā, bet nekrietnus cilvēkus, kā piemēram, Penelopes preciniekus, mobilizē tikai bailes krist kaunā tautas acīs, jo viņiem ir bail no sabiedriskā viedokļa ( Od., XVI, 375; XXI, 321sqq ). Principā ar šo viedokli ir jārēķinās absolūti visiem, un arī īstie varoņi nav brīvi no tā. Piemēram, Odiseja izdomātā stāsta varonis apgalvo, ka viņš bija spiests doties Trojas karā pret savu gribu: “nespējām atteikties mēs, jo saista mūs kopienas spriedums”[33] ( Od., XIV. 235 – 239 ). Tātad, visiem kopienas locekļiem bija jārīkojas, atskatoties uz sabiedrisko viedokli un vissliktākais šādos apstākļos bija krist kaunā cilvēku priekšā. Tā ir parasta situācija mazās face to face tipa sabiedrībās, kur kolektīva spriedums faktiski kontrolē visu locekļu morālo stāju un uzvedību. Rezultātā šajā vidē veidojas indivīda atkarība no sabiedriskā viedokļa, kas spēlē dominējošu lomu. Zinātniskajā literatūrā tāda tipa kultūras, kur cilvēka uzvedību kontrolē kolektīva viedoklis, tiek dēvētas par “kauna kultūrām” ( shame cultures )[34]. Kauns un atbildības sajūta kopienas priekšā šajā sistēmā nosaka visu. Tādēļ ir dabiski, ka arī Homēra eposā kauna tēma ( aidōs ) ir viena no centrālajām[35]. Kauna esamība atšķir “labos” cilvēkus no “sliktajiem” un kalpo kā savdabīgs cilvēka krietnuma tests, tā ir obligāta norma visiem krietnajiem[36]. Tas viss ir labi zināms un plaši aprakstīts, bet gribas piebilst, ka saukt Homēra pasauli par “kauna kultūru” nav gluži pareizi, jo, kā jau teikts, kauns ir tikai viens pols, kas iespaido episko cilvēku rīcību, otrā polā ir tieksme pēc goda un slavas, kas ir ne mazāk stipra rīcības motivācija. Slava arī ir iespējama tikai sabiedriskā novērtējuma rezultātā un tādēļ varoņi cenšas apliecināt sevi publiski. Tātad, kolektīvs vienlaicīgi stimulē uz labiem darbiem un attur no sliktajiem. Šeit pozitīvie un negatīvie stimuli harmoniski mijiedarbojas, papildinot viens otru. Tādēļ pareizāk būtu teikt, ka tā bija “slavas un kauna kultūra”.
Uz slavas alkām un kauna bailēm dibinātais ētikas kodekss nosaka visu varoņu rīcību gan miera laikā, gan karā. Visspilgtāk tas izpaužas, protams, kaujas laukā, kur aristokrāti demonstrē un realizē savu varoņu dabu. Tur viņu pienākums ir cīnīties priekšējās rindās ( Il., XII, 321sqq; XIII, 269 – 271; Od., XVIII, 379 ) un sagaidīt savu nāvi ar seju pret to, nevis ar muguru ( Il., XIII, 278 – 291; XXII, 283 – 285 ). Cīnoties viņiem ir jāievēro nerakstīti goda kodeksa priekšraksti, jo, kur gods ir pirmajā vietā, tur galvenais ir nevis rezultāts, bet gan tā sasniegšanas veids. Aristokrātiska ideoloģija neļauj tiekties uz mērķi ar negodīgiem, zemiskiem līdzekļiem, tā nosaka atklātu, godīgu rīcību. Tādēļ varonis skaļi deklarē, ka viņam netīk uzbrukt pretiniekam slēpjoties un nemanāmi, bet gan tikai atklāti un godīgi ( Il.,VII, 242sq ). Tas tiek ievērots ne tikai vārdos, bet arī darbos. Kā piemērs tam ir Hektora un Ajanta divkauja, kas norisinājās atbilstoši visam bruņnieciskajam rituālam un, kad tā beidzās neizšķirti, varoņi atvadījās, apmainoties ar dāvanām ( Il., VII, 219 – 306 ). Galu galā varoņu mērķis ir gods un slava, nevis slaktiņš un nogalināšana. Karš ir tikai godu sacīkstes arēna, kur uz spēles tiek likta visaugstākā likme – varoņa dzīvība. Nevienam šeit nav mērķis “maksimāli sagraut ienaidnieka dzīvo spēku un materiālos resursus” – tas ir progresa un jauno laiku auglis… Homēra pasaulē kaujas lauks ir nevis masu slaktiņa vieta, bet goda un slavas atklāšanas vieta. Atbilstoši šai ētikai varoņi ne tikai ievēro cīņas normas, bet arī izvēlas ieročus. Īsts varonis iziet kaujā bruņās, ar garu šķēpu un vairogu, jo viņš dodas tuvcīņā. Tālcīņas ieroci – loku ar bultām – aristokrātu ētika vērtē izteikti negatīvi. Piemēram, kad Parīds ievaino Diomedu ar bultu, tas nikni kliedz viņam šādus vārdus:
“Bezkaunīgs strēlnieks tu esi! Kam, pavedēj, lielais ar loku[37] ?
Ja jau tev bijusi drosme ar ieročiem iznākt pret mani,
Redzēsi drīzi, cik bultas un loki tev varētu līdzēt…
( Il., XI. 385 – 387 )
Tātad, īstais varonis uzskata loku par nekrietnu ieroci, un tas ir saprotams – šaut no attāluma var ikviens gļēvulis, kas baidās iziet atklātā cīņā ar varoni. Tas ir arī netaisnīgs cīņas veids, jo sliktajam dot priekšrocību pār labo. Līdzīgi Diomedam pret loku attiecas vēl viens ahaju lielais varonis – Ajants. Viņš aicina Teukru nolikt malā savu loku, paņemt rokās šķēpu un vairogu un iet tuvcīņā ( Il., XV, 470sqq ). Viens trojiešu varonis pat atklāti nožēlo, ka, dodoties karā, taupības nolūkos atstāja mājās savus zirgus ar kaujas ratiem un paņēma līdzi loku ar bultām; dusmās viņš pat sola tos salauzt un sadedzināt ( Il., V, 191 – 215 ).
Tomēr šķiet, ka viss teiktais vēl nespēj izskaidrot Homēra varoņu motivācijas būtību visā pilnībā. Viņu ētika nevarētu būt tik iedvesmojoša un mobilizējoša, ja tā nesakņotos kādās metafiziskās vērtībās un ideālos. Šajā gadījumā tas ir tas pats dievu svētītais varonības ideāls, tāds ideāls, kuram varoņi kalpo, tāds, kas veido viņu virspersonisko dzīves mērķi un jēgu. Tikai tāda mēroga ideālam ir iespējams veltīt un upurēt dzīvi. Tādēļ var teikt, ka Homēra varoņu gatavība nāvei sava ideāla dēļ ir viņu galvenā īpašība, tā ir tāda īpašība, kas padara viņus par varoņiem. Tas, kas nostājies uz varonības ceļa, zina, ka viņam jāsaglabā šī stāja jebkurā situācijā un jebkurā brīdī ir jābūt gatavam samaksāt par to ar savu dzīvību. Tā, piemēram, kad Odisejs pieņem lēmumu palikt kaujas laukā viens pats pret daudziem ienaidniekiem, viņš ir gatavs pieņemt savu nāvi ( Il., XI. 401 – 410 ). Citādi viņa pozīcija nemaz nav izskaidrojama. Tā ir ikviena varoņa pamatpozīcija, jo, kā teica tas pats Odisejs, varoņi ir tie, kuriem ir lemts “pārdzīvot drausmīgus karus, līdz visi mēs būsim pagalam” ( Il., XIV, 87 ). Šādā nostājā varonis apliecina savu gara brīvību, savu neatkarību no likteņa, kas viņam paredz nāvi. Toties tikai tādā veidā viņš arī sasniedz savu mērķi, kas ir gods un slava. Piemēram, kad mūžīgi skaistā nimfa Kalipso, gribēdama paturēt Odiseju pie sevis, kārdina viņu, piedāvājot nemirstību un bezrūpīgu dzīvi kopā ar sevi, norādot uz savu nenovīstošo skaistumu, kuram pretī nevar stāvēt novecojošais Penelopes skaistums, kā arī biedējot ar briesmām un pārbaudījumiem, kas sagaida varoni mājupceļā, Odisejs noraida viņas piedāvājumu, demonstrē stingru apņēmību par spīti visam doties uz mājām, un noslēdz savu runu ar vārdiem, kuri uzrāda viņa gatavību pieņemt likteni:
“Bet, ja nu tomēr kāds dievs mani satriektu[38] tumšajā jūrā,
Cietīšu tālāk, jo krūtīs ir sirds, kas rūdīta bēdās…”
( Od., V, 221 – 222 )
Vēlāk Odisejs atkārtoti apliecina savu apņēmību pieņemt likteni: “lai jel tā, Teiresij, notiek, kā lēmuši mūžīgie dievi” ( Od., XI, 139 ). Šādā varonības kontekstā liktenis figurē kā nāve, kā samaksa par labo un pareizo, t.i., par varoņa cēlo izvēli. Ja Odisejs izvēlētos palikt pie Kalipso, draudīgais liktenis vairs nebūtu aktuāls, bet tad Odisejs būtu pārvērties par mietpilsoni un zaudētu varoņa godu. Tā būtu realizējusies mietpilsoņa laime – bezrūpīga, labklājīga dzīve kopā ar mūžīgi skaistu, nenovecojošu sievieti, kuras seju neskar grumbas, bet ķermeni – celulīts, kuras labā nevajadzētu strādāt un pūlēties[39]…. Turpretī Odiseja izvēle ir balstīta ētikā un ideālos principos, kuru dēļ viņš ir gatavs riskēt un samaksāt ar savu dzīvību, ja liktenis to prasītu. Tieši šādā veidā tiek realizēts viņa varonības ceļš.
Saprotams, ka varoņa liktenīgā izvēle vispilnīgāk izpaužas kaujas laukā.
Kad Hektors savā pēdējā kaujā sadūšojās nostāties pretī Ahilejam, viņš teica, ka ir gatavs uzņemt pretinieka šķēpu savās krūtīs, kā tas pienākas varonim, ja tāda ir dievu griba, bet, tajā pat laikā vēl arī pats izteica draudu Ahilejam ar savu ieroci ( Il., XXII, 278 – 286 ). Tādā veidā viņš apliecināja, ka dievu vai likteņa griba viņam vēl nav zināma, ka viņš to pieņem jebkurā gadījumā un ir gatavs izpildīt savu varoņa pienākumu līdz galam. Viņš mirst ar izpildīta pienākuma un topošas slavas apziņu, kā tas ir labi redzams viņa pēdējos vārdos:
“ ….. Ļauns liktenis panāk nu mani.
Tomēr es nebūšu kritis bez cīņas un gluži bez slavas,
Bet gan ko darījis esmu, lai pēctečiem būtu ko dzirdēt”
( Il., XXII, 304 – 305 )
Taču Ahilejs kā lielākais eposa varonis visvairāk iemieso sevī arī šo varonības pozīciju kā uzticību savam ideālam iepretī un par spīti savam liktenim. No savas mātes, dievietes Tetīdas viņš zina par sava likteņa divām iespējām – izaicināt Hektoru uz divkauju un pašam iet bojā, vai izvairīties no tās un dzīvot ilgus gadus dzimtenē ( Il., IX, 411 – 416; XVIII, 94sqq ). Ahilejs ir varonis, tādēļ viņa izvēle ir jau iepriekš zināma – ne mirkli nešauboties viņš izvēlas varoņdarbu, drīzu nāvi un mūžīgu slavu. Paziņojot mātei par savu lēmumu, viņš pasaka tai pašu galveno:
“Bet nu es iešu, jo gribu jau drauga slepkavu sastapt,
Hektoru! Likteņa nolemto nāvi es gaidīšu tikai[40]
Tobrīd, kad gribēs to Zevs un pārējie mūžīgie dievi.
Nāve nevienam nav gājusi garām, pat Hērakla spēkam,
Bet gan to liktenis lieca un Hēras drausmīgās dusmas.
Gluži tā es, ja likteni tādu man lēmuši dievi,
Gulēšu kritis, bet tagad sev iegūšu raženu slavu.”
(Il., XVIII, 114 – 121 )
Būtībā šis teksts arī ir patiesais varonības manifests – šeit varonis apliecina gatavību par varoņdarbu samaksāt ar savu dzīvību, uzrāda savu paraugu – leģendāro Hēraklu, un nosauc savu gala mērķi – “mirdzošo slavu”. Galvenais moments šajā runā ir tieši varoņa gatavība saņemt savu nāvi. Situācijā, kurā tagad atrodas Ahillejs, viņam nav citas izvēles, ja vien viņš grib saglabāt varoņa statusu. Palikt par varoni šeit nozīmē izvēlēties varoņdarbu un drīzu nāvi. Ikviens cits lēmums būtu nozīmējis atteikšanos no varonības un iepriekšējo nopelnu izdzēšanu. Visi saprot, ka atstāt Patrokla līķi Hektora rokās būtu Ahilejam tāds kauns, no kura viņš nekad nenomazgātos ( Il., XVIII, 175sqq ). Tādēļ Ahilleja izvēle ir jau “ieprogrammēta” viņā no goda un slavas idejām, t.i., no visas varoņu ideoloģijas. Liktenim šeit nav nekādas teikšanas, viņš nenosaka varoņa rīcību, bet gan tikai pasludina divas iespējas, izvēle starp kurām ir paša varoņa ziņā. Viņš pats deklarē savu gatavību nāvei kaujas laikā, tajā brīdī, kad atsakās uzklausīt Priama dēla Likaona lūgumu pēc apžēlošanas:
„Mirsti tu arī, mans mīļais! Kam raudi patlaban tik žēli?
Patrokls jau arī ir miris, kaut bija daudz labāks par tevi.
Raugies uz mani, kāds esmu, cik skaists un cik varens pēc skata.
Slavena tēva dēls esmu, un dieviete māte ir mana,
Bet arī man jau ik brīdi draud nāve un liktenis bargais.
Vai tas būs rītā vai vakarā vēlu, vai pusdienas laikā,
Tomēr man arī kāds naidnieks drīz dzīvību nolaupīs cīņā,
Izmezdams šķēpu pret mani vai raidīdams šautru ar stiegru!”
( Il., XXI, 106 – 113 )
Ahileja apņemšanās iet varoņa ceļu līdz galam tika pārbaudīta divas reizes. Pirmo reizi tas notika brīdī, kad viņa paša dievišķais zirgs pareģoja viņam drīzu nāvi, uz ko Ahilejs atkal apliecināja savu nelokamu gatavību mirt, izpildot varoņa pienākumu līdz galam ( Il., XIX, 420 – 423 ). Otro reizi, kad uzvarētais Hektors pareģoja viņam tuvu nāvi, uz ko Ahilejs atbildēja tikpat pārliecinoši kā vienmēr:
“Mirsti nu! Likteņa nolemto nāvi es gaidīšu tikai[41]
Tobrīd, kad gribēs to Zevs un pārējie mūžīgie dievi.”
( Il., XXII, 365 – 366 )
Šādu gatavību samaksāt ar savu dzīvi par uzticību varoņa ideālam uzrāda arī citi varoņi – gan Hekors ( Il., XXII, 25 – 91 ), gan Patrokls ( Il., XVI, 80 – 100, 684 – 711, 784 – 857 ), gan arī citi, mazāk slaveni karotāji ( Il., XIII, 663 – 672 ). Visiem viņiem ir viena balva – nāve un slava.
Tas viss nozīmē ne tikai to, ka varonis vienmēr ir gatavs nāvei, un ka šī gatavība iet pa priekšu jebkurai viņa rīcībai. Tas nozīmē arī to, ka tādā veidā viņš gūst uzvaru pār likteni, jo rīkojas tā, it kā likteņa nemaz “nebūtu bijis”[42]. Citiem vārdiem sakot, viņš ignorē likteni, izrādot uzticību savām vērtībām, t.i., varoņa ideālam. No tā izriet, ka šo ideālu viņš vērtē augstāk par savu dzīvību, un sadursmē starp likteni un ideālu izvēlas ideālu. Tātad, pats galvenais varoņu ētikā ir tas, ka varonis paceļas pāri ikdienai un sāk kalpot ideālam, kas viņam ir pašpietiekams un pārāks par visu citu, par visu to, ko ierindas cilvēks, mietpilsonis, uzskata par savas eksistences mērķi un jēgu: labklājību, ģimeni, mierīgu dzīvi utt. Varonim pārāks par visu ir gods, un kalpo viņš savam krietnuma ideālam, kuram vajadzības gadījumā tiek upurēta arī paša dzīve. Tātad, ideāls ir stiprāks pat par nāves bailēm, un tas nozīmē to, ka varonis sākas tur, kur beidzas bailes, pirmkārt nāves bailes. Taču šīs bailes beidzas tikai tur, kur dzīvei ir cēls, metafiziskas dabas mērķis. Tieši šāds mērķis dara varoņus gatavus nāvei, un šī gatavība padara viņus iekšēji brīvus, tik brīvus, ka ar savu gribu un savu izvēli viņi pārvar likteņa varu. Galu galā brīvs ir tikai tas, kurš ir atbrīvojies no bailēm, tādā veidā iegūstot neatkarību no ārējiem apstākļiem. Savukārt, tas ir iespējams tikai tad, kad cilvēkam ir tīra sirdsapziņa. Un tīru sirdsapziņu viņš iegūst, tikai rīkojoties pēc tā principa, ko var uzskatīt par visas pasaules aristokrātijas kredo: “dari, kas pienākas un lai notiek, kas notikdams”[43]. Tas nozīmē, ka viņš ir pārliecināts par savas rīcības atbilstību morāli ētiskajam ideālam. Tas tad arī ir patiesais varonības ceļš, kuru apdzied nemirstīgais Homēra eposs…
[1] Skat.: Андреев Ю. В. Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации. Спб., 1999. С. 168, 173; Сапронов П. А. Культурология. Спб., 1998. С. 192.
[2] Meyer E. Geschichte des Altertums. Bd. 3. Darmstadt, 1954. S. 279; Spahn P. Mittelschicht und Polisbildung. Frankfurt / Main, 1977. S. 39; Stein – Hölkeskamp E. Adelskultur und Polisgesellschaft. Stuttgart, 1989S. 44 – 69; Ulf Ch. Die homerische Gesellschaft. Materiallien zur analytischen Beschreibung und historischen Lokalisierung. München, 1990. S. 222; Welwei K. – W. Polisbildung , Hetairos – Gruppen und Hetairien / Gymnasium, 1992. Bd. 99. S. 108; Barcelo P. Basileia, Monarhia, Tyrannis. Stuttgart, 1993. S. 69; Walter U. An der Polis teilhaben. Stuttgart, 1993. S.33, 41. Visspilgtāk šis uzstādījums izpaudās, protams, marksistiskajā zinātnē, kur radās pat tāds apgalvojums, ka grieķu aristokrātu varonīgās ģenealoģijas pamats bija viņu bagātība, zemes, lopu, vergu un vērtību daudzums ( Колобова К.M. К вопросу о возникновении Афинского государства // ВДИ, 1968. С. 4, 51. ) Taču man ir grūti iedomāties, kādā veidā lopu daudzums var veidot ģenealoģiju…
[3] Piem.: Barcelo P. Op. Cit. S. 57; Walter U. Op. Cit. S. 41.
[4] Basilejs (grieķu baisleus ) – ķēņiņš, vadonis.
[5] Šajā rindiņā A. Ģiezena tulkojums ir mainīts. Viņš šo vietu ir iztulkojis šādi: “Tāpēc, ka priekšējās likiešu rindās redz dūšīgos likiešu pulkus.” Homēra tekstā ir daudz skaidrāk izteikta doma, ka viņi cīnās pirmajās likiešu rindās: „epei lykoisi meta prōtoisi mahontai”.
[6] Šeit un turpmāk citāti no Homēra tiek sniegti A. Ģiezena tulkojumā
[7] Sīkāk par temenu kā par balvu skat.: Donlan W. Hoemric temenos and the Land Economy of the Dark Age // Museum Helveticum 1989. Vol. 46. P. 129sqq; Arnheim M.Aristocracy in Greek Society. London, 1977. P. 29f.
[8] Ārējais izskats un apģērbs Homēram kalpo par cilvēka iekšējās būtības raksturojošiem elementiem: varoņi ir skaisti, viņi nēsā apģērbu no lauvas ādas, bet zemākas dabas cilvēki ir neglīti un viņi valkā vilkādas kažoku, kā Dolons. Skat.: Il., II, 216 – 219; XVIII, 318sqq; XX, 164; V, 550sqq, 783; X, 297, 23sq, 177; XI, 72sqq.; XVI, 156 – 165; XVII, 61, 109, 133 etc.
[9] Vispār tā ir nopietna historiogrāfiska problēma, kas traucē mums adekvāti izprast citu laiku kultūras – skat. par to: Гуревич А. Я. От истории ментальности к историческому синтезу // Споры о главном. Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской школы ”Аннналов”. Москва, 1993. С. 23; Salīdz.: – “Vēsture ir jāatbrīvo no pētnieka māņticīgajiem uzskatiem” – Шпенглер O. Закат Европы. Т.1. Новосибирск, 1993. С. 157.
[10] Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. Пер. В. Ошиса. М., 1992. С. 216.
[11] Сапронов П.A. Феномен героизма. Спб., 200ш. С. 177.
[12] Turpat. Lpp. 177, 188, 199utt.
[13] Turpat. Lpp. 185 – 189.
[14] Skat.: Adkins A. Merit and Responsibility. A Study in Greek Values. Oxford, 1960. P. 31sqq; Dodds E. The Greeks and Irrational. Berkeley, 1966. P. 7sqq, 17sqq; Snell B. Die Entdeckung des Geistes. Göttingen, 1980. S. 35ff; ЯрхоВ. Вина и ответственность в гомеровском эпосе // ВДИ, 1962, 2. С. 13слл; Он же: Проблема ответственности и внутренний мир гомеровского человека // ВДИ, 1963, 2. С. 46слл.
[15] Dodds E. Op. Cit. P. 17; Snell B. Op. Cit. S. 35f.
[16] Detalizētu piemēru izlasi un analīzi skat.: ЯрхоВ. Проблема ответственности... С. 56 – 62.
[17] Skat.: Лосев А. Ф. Гомер. Москва, 1996. С. 178слл.
[18] Sīkāk skat.: ЯрхоВ. Вина и ответственность… С. 21- 25.
[19] Turpat. Lpp. 22.
[20] Ate – Zeva meita, dieve, kas aptumšo cilvēku prātus un grūž viņus postā. Viņa iemieso neprātu un apsēstību.
[21] Piemēram: Dodds E. Op. Cit. P. 16sq; ЯрхоВ. Вина и ответственность… С. 14.
[22] Īstenībā tekstā šeit stāv nevis “sirds” ( kardia ), bet frēn – īpatnējs vārds, kas apzīmē gan cilvēka ķermeņa daļu – “krūtis”, “diafragma”, gan garīgās dzīves un emociju centru, ko parasti tulko pēc konteksta kā “sirds”, “dvēsele”, “prāts”, “doma”, kaut gan parasti “prāts” tiek apzīmēts ar citu vārdu – nous ( skat.: ЯрхоВ. Проблема ответственности… С.49 ).Visos minētajos gadījumos Agamemnons lieto tieši šo vārdu, arī tur, kur tulkojumā ir teikts, ka Zevs viņam atņēma “prātu” (Il., XIX, 137 ). Man liekas, ka šis vārds šeit nav nejaušs un apzīmē nevis gluži prātu, bet to iekšējo saviļņojumu, to emociju, kuru tā laika grieķu doma lokalizēja krūtīs. Prāts ir tieši tas, kas pielaida kļūdu, paklausot šai dievu aptumšotajai emocijai.
[23] Viņa sirds varēja būt „noskumusi’ ( Il., IX, 119 ), kā viņš pats izteicās, tādēļ, ka viņš bija spiests atteikties no savas godīgi karā nopelnītās balvas – gūsteknes Hriseīdas . Lai kompensētu šo zaudējumu, Agamemnons nolēma atņemt citu gūstekni Ahillejam, dēļ kā viņu starpā arī izcēlās liktenīgais naids ( Il., I, 9 – 305 ).
[24] “Liktenis palīdz drosmīgajiem”.
[25] Šī “daļa” atklāj mums likteņa personificēto dimensiju, kas vēl neparādās skaidri Homēra eposā, taču visai spilgti izteikta Hēsioda daiļradē, kur ir attēlotas trīs likteņa dieves – Moiras, kas auž cilvēka mūžu. Savukārt, šīs likteņa personifikācijas pieder, acīmredzot, kopējam indoeiropiešu mantojumam un šajā sakarā atgādina analoģiskas latviešu personifikācijas – Laimu, Kārtu, Dēklu.
[26] Sīkāk par to skat.: Горан В. П. Древнегреческая мифологема судьбы. Новосибирск, 1990. С. 222 – 23; Лосев А. Ф. Указ. Соч. С. 382 – 388.
[27] Tas ir atkal tas pats arhaiskais tēls, kas parāda likteni kā vilnas kamolu, kas tiek austs uz dieviešu ceļiem ( klēpī ). Šis tēls izsenis piesaista pētnieku uzmanību: Onians R. The Origins of European Thought about theBody, the Mind, the Soul, the World, Time and Fate. Cambrige, 1954. P. 303 – 309, 333qs; Горан В. П. Указ. Соч. С. 195слл; Лосев А. Ф. Указ. Соч. С. 386сл;
[28] Сапронов П. A. Феномен героизма… С. 193.
[29] Turpat. Lpp. 182.
[30] Skat. Piemēram: Rūmniece I. Pindars un kalokagatija // Kentaurs XXI, 43, 2007. Lpp. 19.
[31] Protams, tam ir arī sociālais aspekts – jo vairāk varonis tuvojas šim ideālam, jo augstāku pakāpienu sociālajā hierarhijā viņš ieņem – skat.: Welwei K. – W. Adel und Demos in der fühen Polis // Gumnasium, 1981. Bd. 88. Heft 1. S. 2; Patzek B. Homer und Mykene. Mündliche Dichtung und Geschitsschreibung. München, 1992. S. 133.
[32] Гуревич А.Я. Индивид и социум на средневековом Западе. Москва, 2005. С. 147.
[33] A. Ģiezena tulkojumā šeit ir: “jo bijos no dažādām tenkām”. Grieķu tekstā nav teikts par bailēm un tiek lietots izteiciens dēmou phēmis, kas apzīmē “ tautas baumas”, “tautas viedokli”. Būtībā tas ir tas pats sabiedrības viedoklis, kas spiež varonim paklausīt tautas gribai, jo varonis apgalvo, ka viņam ir jāpakļaujas “smagajam” tautas viedoklim ( halepē d’ ehe dēmou phēmis ).
[34] Adkins A. Op. Cit. P.48sq; Dodds E. Op. Cit. P. 17sqq; Walter U. Op. Cit. S.69; Зайцев А. Я. Культурный переворот. в древней Греции. в VII – V вв. до н. э. Ленинград, 1985.С. 81.
[35] Van Wees H. Status Warriors. War, Violence and Society in Homer and History. Amsterdam, 1982. P. 67sq.
[36] Ярхо В. Вина и ответственность… С. 9.
[37] A. Ģiezenam šajā vietā ir: “lielais ar stopu”. Vārds “stops” ir nomainīts pret “loku”, lai nerastos asociācijas ar viduslaiku arbaletu.
[38] A. Ģiezena tulkojumā šeit stāv : „man uzbruktu tumšajā jūrā”. Tulkojums ir mainīts, jo vārds rhaiō nozīmē „sist”, „satriekt”, „iznicināt” „sagraut”, nevis tikai uzbrukt. Turklāt, ciešamā kārtā šis vārds nozīmē konkrēti „iet bojā”, bet ciešamās kārtas divdabis apzīmē tieši bojāejošo uz jūras. Tas nozīmē, ka Odisejs rēķinās nevis tikai ar kāda dusmīga dieva uzbrukumu, bet arī ar savas nāves iespēju. Tāpat arī vārds „tomēr” šeit ielikts „atkal” vietā, jo grieķu adverbs au pieļauj zināmu divdomību un var tikt tulkota gan kā „atkal”, gan kā „tomēr”, turpretī”, „no otras puses”. Manuprāt, šajā kontekstā ir jāliek „tomēr” vai „turpretī”, jo šajā vietā ir pretnostatījums – Odisejs pretnostata Kalipso piedāvājumam savu apņēmību doties uz mājām.
[39] Ir ļoti zīmīgi, ka grieķu kultūras pirmsākumos ir ielikta jau tik liela ģimenes vērtība – varonis tiecas atbrīvoties no mūžīgi skaistas sievietes, lai atgrieztos pie savas mirstīgās sievas, par kuru droši zina, ka divdesmit gadu laikā viņa ir novecojusi. Episkā varoņa rīcībai ir normatīvs raksturs, tas ir kultūras paraugs un to aizmirst daudzi mūsdienu ideologi , kas senajā Grieķijā vēlas redzēt tikai pederastiju un sieviešu diskrimināciju…
[40] Oriģinālā nav teikts „tikai” – tur Ahilejs vienkārši paziņo, ka ir gatavs saņemt nāvi jebkurā brīdī, kad to lems Zevs un citi dievi.
[41] Arī šeit Homēram nav nekāds „tikai”. Ahilejs šeit vienkārši apstiprina savu gatavību mirt jebkurā brīdī.
[42] Сапронов П. Феномен героизма… С. 99сл.
[43] Nav nejauši, ka līdzīgas vērtības un līdzīgu attieksmi pret dzīvi mēs atrodam ne tikai viduslaiku Eiropā, bet arī Japānā, samuraju kultūras apstākļos. Un zīmīgi, ka tur pamācības samurajiem sākās ar domu par ik mirkļa gatavību nāvei – skat.: Клири Т. Кодекс самурая. Современный перевод «бусидо сосинсю» Тайры Шигесуке. Пер. Лаврова Н. Н. Москва, 2001. С. 33слл.
[1] Skat.: Андреев Ю. В. Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации. Спб., 1999. С. 168, 173; Сапронов П. А. Культурология. Спб., 1998. С. 192.
[2] Meyer E. Geschichte des Altertums. Bd. 3. Darmstadt, 1954. S. 279; Spahn P. Mittelschicht und Polisbildung. Frankfurt / Main, 1977. S. 39; Stein – Hölkeskamp E. Adelskultur und Polisgesellschaft. Stuttgart, 1989S. 44 – 69; Ulf Ch. Die homerische Gesellschaft. Materiallien zur analytischen Beschreibung und historischen Lokalisierung. München, 1990. S. 222; Welwei K. – W. Polisbildung , Hetairos – Gruppen und Hetairien / Gymnasium, 1992. Bd. 99. S. 108; Barcelo P. Basileia, Monarhia, Tyrannis. Stuttgart, 1993. S. 69; Walter U. An der Polis teilhaben. Stuttgart, 1993. S.33, 41. Visspilgtāk šis uzstādījums izpaudās, protams, marksistiskajā zinātnē, kur radās pat tāds apgalvojums, ka grieķu aristokrātu varonīgās ģenealoģijas pamats bija viņu bagātība, zemes, lopu, vergu un vērtību daudzums ( Колобова К.M. К вопросу о возникновении Афинского государства // ВДИ, 1968. С. 4, 51. ) Taču man ir grūti iedomāties, kādā veidā lopu daudzums var veidot ģenealoģiju…
[3] Piem.: Barcelo P. Op. Cit. S. 57; Walter U. Op. Cit. S. 41.
[4] Basilejs (grieķu baisleus ) – ķēņiņš, vadonis.
[5] Šajā rindiņā A. Ģiezena tulkojums ir mainīts. Viņš šo vietu ir iztulkojis šādi: “Tāpēc, ka priekšējās likiešu rindās redz dūšīgos likiešu pulkus.” Homēra tekstā ir daudz skaidrāk izteikta doma, ka viņi cīnās pirmajās likiešu rindās: „epei lykoisi meta prōtoisi mahontai”.
[6] Šeit un turpmāk citāti no Homēra tiek sniegti A. Ģiezena tulkojumā
[7] Sīkāk par temenu kā par balvu skat.: Donlan W. Hoemric temenos and the Land Economy of the Dark Age // Museum Helveticum 1989. Vol. 46. P. 129sqq; Arnheim M.Aristocracy in Greek Society. London, 1977. P. 29f.
[8] Ārējais izskats un apģērbs Homēram kalpo par cilvēka iekšējās būtības raksturojošiem elementiem: varoņi ir skaisti, viņi nēsā apģērbu no lauvas ādas, bet zemākas dabas cilvēki ir neglīti un viņi valkā vilkādas kažoku, kā Dolons. Skat.: Il., II, 216 – 219; XVIII, 318sqq; XX, 164; V, 550sqq, 783; X, 297, 23sq, 177; XI, 72sqq.; XVI, 156 – 165; XVII, 61, 109, 133 etc.
[9] Vispār tā ir nopietna historiogrāfiska problēma, kas traucē mums adekvāti izprast citu laiku kultūras – skat. par to: Гуревич А. Я. От истории ментальности к историческому синтезу // Споры о главном. Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской школы ”Аннналов”. Москва, 1993. С. 23; Salīdz.: – “Vēsture ir jāatbrīvo no pētnieka māņticīgajiem uzskatiem” – Шпенглер O. Закат Европы. Т.1. Новосибирск, 1993. С. 157.
[10] Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. Пер. В. Ошиса. М., 1992. С. 216.
[11] Сапронов П.A. Феномен героизма. Спб., 200ш. С. 177.
[12] Turpat. Lpp. 177, 188, 199utt.
[13] Turpat. Lpp. 185 – 189.
[14] Skat.: Adkins A. Merit and Responsibility. A Study in Greek Values. Oxford, 1960. P. 31sqq; Dodds E. The Greeks and Irrational. Berkeley, 1966. P. 7sqq, 17sqq; Snell B. Die Entdeckung des Geistes. Göttingen, 1980. S. 35ff; ЯрхоВ. Вина и ответственность в гомеровском эпосе // ВДИ, 1962, 2. С. 13слл; Он же: Проблема ответственности и внутренний мир гомеровского человека // ВДИ, 1963, 2. С. 46слл.
[15] Dodds E. Op. Cit. P. 17; Snell B. Op. Cit. S. 35f.
[16] Detalizētu piemēru izlasi un analīzi skat.: ЯрхоВ. Проблема ответственности... С. 56 – 62.
[17] Skat.: Лосев А. Ф. Гомер. Москва, 1996. С. 178слл.
[18] Sīkāk skat.: ЯрхоВ. Вина и ответственность… С. 21- 25.
[19] Turpat. Lpp. 22.
[20] Ate – Zeva meita, dieve, kas aptumšo cilvēku prātus un grūž viņus postā. Viņa iemieso neprātu un apsēstību.
[21] Piemēram: Dodds E. Op. Cit. P. 16sq; ЯрхоВ. Вина и ответственность… С. 14.
[22] Īstenībā tekstā šeit stāv nevis “sirds” ( kardia ), bet frēn – īpatnējs vārds, kas apzīmē gan cilvēka ķermeņa daļu – “krūtis”, “diafragma”, gan garīgās dzīves un emociju centru, ko parasti tulko pēc konteksta kā “sirds”, “dvēsele”, “prāts”, “doma”, kaut gan parasti “prāts” tiek apzīmēts ar citu vārdu – nous ( skat.: ЯрхоВ. Проблема ответственности… С.49 ).Visos minētajos gadījumos Agamemnons lieto tieši šo vārdu, arī tur, kur tulkojumā ir teikts, ka Zevs viņam atņēma “prātu” (Il., XIX, 137 ). Man liekas, ka šis vārds šeit nav nejaušs un apzīmē nevis gluži prātu, bet to iekšējo saviļņojumu, to emociju, kuru tā laika grieķu doma lokalizēja krūtīs. Prāts ir tieši tas, kas pielaida kļūdu, paklausot šai dievu aptumšotajai emocijai.
[23] Viņa sirds varēja būt „noskumusi’ ( Il., IX, 119 ), kā viņš pats izteicās, tādēļ, ka viņš bija spiests atteikties no savas godīgi karā nopelnītās balvas – gūsteknes Hriseīdas . Lai kompensētu šo zaudējumu, Agamemnons nolēma atņemt citu gūstekni Ahillejam, dēļ kā viņu starpā arī izcēlās liktenīgais naids ( Il., I, 9 – 305 ).
[24] “Liktenis palīdz drosmīgajiem”.
[25] Šī “daļa” atklāj mums likteņa personificēto dimensiju, kas vēl neparādās skaidri Homēra eposā, taču visai spilgti izteikta Hēsioda daiļradē, kur ir attēlotas trīs likteņa dieves – Moiras, kas auž cilvēka mūžu. Savukārt, šīs likteņa personifikācijas pieder, acīmredzot, kopējam indoeiropiešu mantojumam un šajā sakarā atgādina analoģiskas latviešu personifikācijas – Laimu, Kārtu, Dēklu.
[26] Sīkāk par to skat.: Горан В. П. Древнегреческая мифологема судьбы. Новосибирск, 1990. С. 222 – 23; Лосев А. Ф. Указ. Соч. С. 382 – 388.
[27] Tas ir atkal tas pats arhaiskais tēls, kas parāda likteni kā vilnas kamolu, kas tiek austs uz dieviešu ceļiem ( klēpī ). Šis tēls izsenis piesaista pētnieku uzmanību: Onians R. The Origins of European Thought about theBody, the Mind, the Soul, the World, Time and Fate. Cambrige, 1954. P. 303 – 309, 333qs; Горан В. П. Указ. Соч. С. 195слл; Лосев А. Ф. Указ. Соч. С. 386сл;
[28] Сапронов П. A. Феномен героизма… С. 193.
[29] Turpat. Lpp. 182.
[30] Skat. Piemēram: Rūmniece I. Pindars un kalokagatija // Kentaurs XXI, 43, 2007. Lpp. 19.
[31] Protams, tam ir arī sociālais aspekts – jo vairāk varonis tuvojas šim ideālam, jo augstāku pakāpienu sociālajā hierarhijā viņš ieņem – skat.: Welwei K. – W. Adel und Demos in der fühen Polis // Gumnasium, 1981. Bd. 88. Heft 1. S. 2; Patzek B. Homer und Mykene. Mündliche Dichtung und Geschitsschreibung. München, 1992. S. 133.
[32] Гуревич А.Я. Индивид и социум на средневековом Западе. Москва, 2005. С. 147.
[33] A. Ģiezena tulkojumā šeit ir: “jo bijos no dažādām tenkām”. Grieķu tekstā nav teikts par bailēm un tiek lietots izteiciens dēmou phēmis, kas apzīmē “ tautas baumas”, “tautas viedokli”. Būtībā tas ir tas pats sabiedrības viedoklis, kas spiež varonim paklausīt tautas gribai, jo varonis apgalvo, ka viņam ir jāpakļaujas “smagajam” tautas viedoklim ( halepē d’ ehe dēmou phēmis ).
[34] Adkins A. Op. Cit. P.48sq; Dodds E. Op. Cit. P. 17sqq; Walter U. Op. Cit. S.69; Зайцев А. Я. Культурный переворот. в древней Греции. в VII – V вв. до н. э. Ленинград, 1985.С. 81.
[35] Van Wees H. Status Warriors. War, Violence and Society in Homer and History. Amsterdam, 1982. P. 67sq.
[36] Ярхо В. Вина и ответственность… С. 9.
[37] A. Ģiezenam šajā vietā ir: “lielais ar stopu”. Vārds “stops” ir nomainīts pret “loku”, lai nerastos asociācijas ar viduslaiku arbaletu.
[38] A. Ģiezena tulkojumā šeit stāv : „man uzbruktu tumšajā jūrā”. Tulkojums ir mainīts, jo vārds rhaiō nozīmē „sist”, „satriekt”, „iznicināt” „sagraut”, nevis tikai uzbrukt. Turklāt, ciešamā kārtā šis vārds nozīmē konkrēti „iet bojā”, bet ciešamās kārtas divdabis apzīmē tieši bojāejošo uz jūras. Tas nozīmē, ka Odisejs rēķinās nevis tikai ar kāda dusmīga dieva uzbrukumu, bet arī ar savas nāves iespēju. Tāpat arī vārds „tomēr” šeit ielikts „atkal” vietā, jo grieķu adverbs au pieļauj zināmu divdomību un var tikt tulkota gan kā „atkal”, gan kā „tomēr”, turpretī”, „no otras puses”. Manuprāt, šajā kontekstā ir jāliek „tomēr” vai „turpretī”, jo šajā vietā ir pretnostatījums – Odisejs pretnostata Kalipso piedāvājumam savu apņēmību doties uz mājām.
[39] Ir ļoti zīmīgi, ka grieķu kultūras pirmsākumos ir ielikta jau tik liela ģimenes vērtība – varonis tiecas atbrīvoties no mūžīgi skaistas sievietes, lai atgrieztos pie savas mirstīgās sievas, par kuru droši zina, ka divdesmit gadu laikā viņa ir novecojusi. Episkā varoņa rīcībai ir normatīvs raksturs, tas ir kultūras paraugs un to aizmirst daudzi mūsdienu ideologi , kas senajā Grieķijā vēlas redzēt tikai pederastiju un sieviešu diskrimināciju…
[40] Oriģinālā nav teikts „tikai” – tur Ahilejs vienkārši paziņo, ka ir gatavs saņemt nāvi jebkurā brīdī, kad to lems Zevs un citi dievi.
[41] Arī šeit Homēram nav nekāds „tikai”. Ahilejs šeit vienkārši apstiprina savu gatavību mirt jebkurā brīdī.
[42] Сапронов П. Феномен героизма… С. 99сл.
[43] Nav nejauši, ka līdzīgas vērtības un līdzīgu attieksmi pret dzīvi mēs atrodam ne tikai viduslaiku Eiropā, bet arī Japānā, samuraju kultūras apstākļos. Un zīmīgi, ka tur pamācības samurajiem sākās ar domu par ik mirkļa gatavību nāvei – skat.: Клири Т. Кодекс самурая. Современный перевод «бусидо сосинсю» Тайры Шигесуке. Пер. Лаврова Н. Н. Москва, 2001. С. 33слл.


 Dr. hist. Harijs Tumans
Dr. hist. Harijs Tumans




















